Неповесть. Часть девятнадцатая
Произвольное жизнеописание
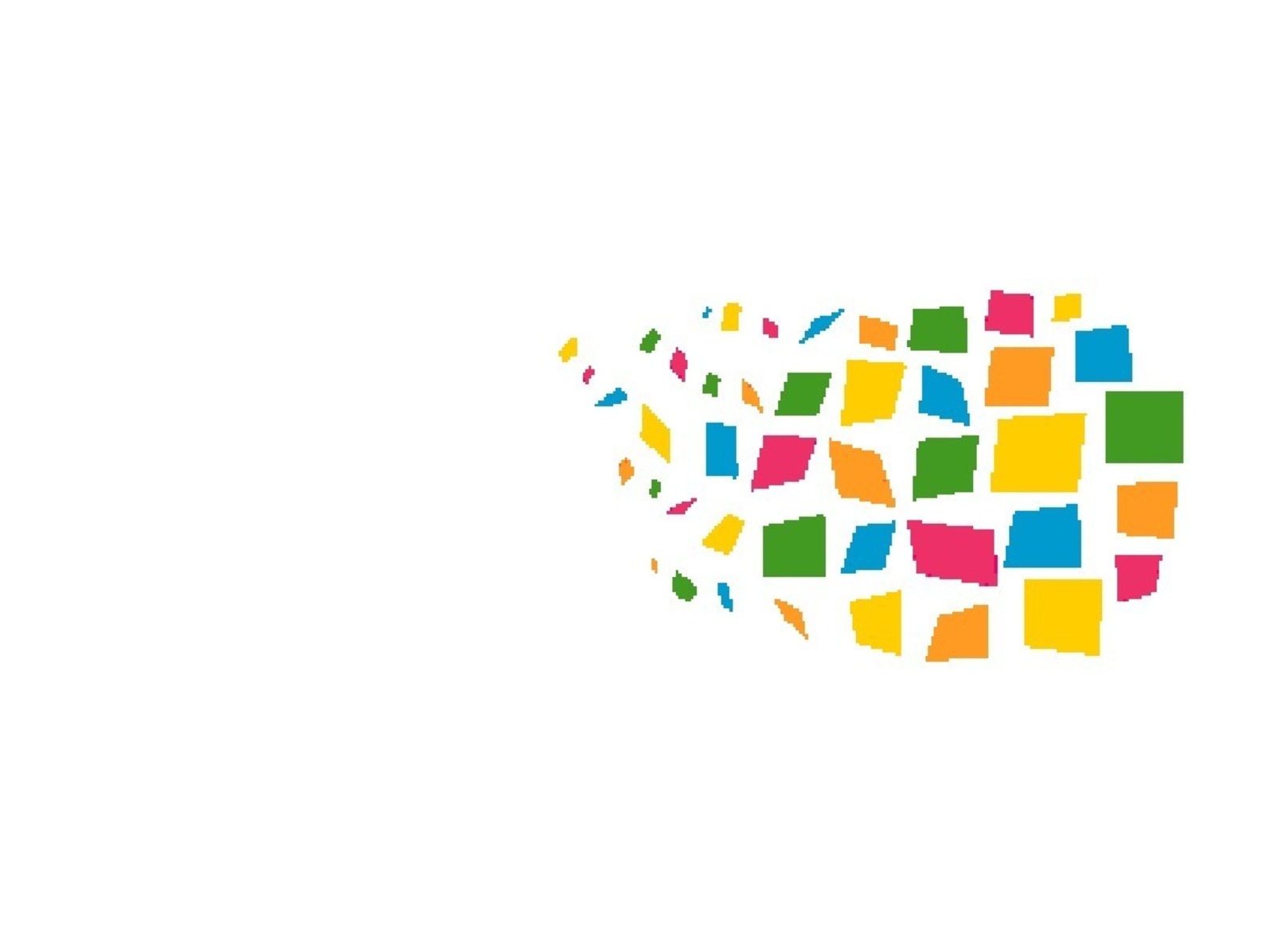
Лакуна
В 1-а классе моей первой учительницей была удивительно добрая и умная Евстолия Лаврентьевна Епанешникова, редкое даже и тогда старинное имя (я обычно быстрее всего забываю имена и фамилии, но это буду помнить всегда, пока жив).
Евстолия Лаврентьевна 1 сентября, как водится, на первом уроке у нас спросила: кто умеет читать и писать – умели многие, почти половина, но только я заявил, что любимое моё чтиво – газеты!
«Советская Башкирия» и «Медицинский работник» (эти газеты выписывали дома). Е.Л. не поверила и, протянув мне «Учительскую газету», сказала: «Прочти это нам всем вслух» – что я и сделал оглушительно громко и с «выражением».
После этого случая меня отпускали домой раньше т. к. остальных нужно было учить, а я больше шумел и баловался… (а я-то тогда решил, что избран в Высший свет). Мои няньки проклинали меня за эти досрочные уходы, т. к. надо было присматривать за мной до прихода с работы кого-нибудь из моих родственников. Чаще всего меня просто кормили обедом и выпроваживали гулять во двор, но там играли только мелкие клопы и я убегал на улицу, где было значительно интересней.
Так прошло почти полгода, лишь после новогодних каникул я уже ходил в школу от звонка до звонка.
Из школы я приходил, перепачканный мелом, позже и чернилами, особенно страдали пальцы правой руки, там чернильное пятно украшало мозоль от ручки и не сходило до самых летних каникул.
Улица Цюрупа от Фрунзе до Тукаева тогда была не заасфальтирована, поэтому домой в бесснежное и сухое время можно было возвращаться, адски пыля, загребая штиблетами придорожную пыль, ясное дело, костюмчик и туфли становились сероваты и при ударе по ним ладонью выпускали облачко-другое…
Первое моё пение в хоре проходило именно в первом классе, первая песня, выученная и потом спетая, начиналась так: «Как пойду я на быструю речку, сяду я да на крут бережок, посмотрю на родную сторонку…» Голос у меня был высокий, чистый, звонкий (видимо, мама ставила мне голос), он до сих пор хранится где-то там, в памяти, я почти слышу его порой… Петь хором мне тогда чрезвычайно нравилось, до школы я если и пел, вернее, напевал вполголоса, когда вокруг никого не было и пел, в основном, только песни военные, как и полагалось советскому мужчине.
Самое приятное в начальных классах (после рисования и пения) это когда происходило хоровое декламирование посреди урока, хлопали крышки парт, мы вставали и изо всех сил орали:
«Мы писали, мы писали, наши пальчики устали, мы немного отдохнём и опять писать начнём».
Ходить одному в школу и обратно было очень интересно, весной вдоль тротуара, в глубокой канаве тёк поток в сторону улицы Фрунзе, и можно было пускать кораблик по пути домой, а летом в этой канаве на дне можно было найти массу интересного и даже полезного. Весной, таким образом, я частенько опаздывал на уроки и приходил не особенно сухим. На другом высоком «бреге» канавы росли «американские клёны» и надёжно отгораживали проезжую часть от тротуара. Канава доходила до перекрёстка с Фрунзе и там ныряла под землю, впадение его было загорожено толстенной решёткой. На другой стороне перекрёстка уже ничего подобного не было. Куда девается поток? Это обстоятельство крайне занимало моё воображение.
За границей забора школьного сада по Цюрупа расположился палисадник за ажурным ограждением, внутри которого стоял двухэтажный жилой дом (а в нём уже жила: некто Аниса – моя ровесница, и роковое существо, существенно повлиявшее на мою жизнь впоследствии, но пока я не знал: ни её, ни интересовался девчонками вообще, исключая конечно моих соседок по дому и лестничной площадке). Интересно, я почти не общался с девчонками вне моего круга, их попросту и не существовало вовсе (сколько не напрягаю память, не могу припомнить никого – одни мальчишеские лица).
А из цехов кабельного завода всегда пахло чем-то «промышленным» и палёным, и доносился сильный шум станков, однако, стёкла первого этажа были настолько запылены и грязны, что разобрать то, что скрывалось за ними было совершенно невозможно, даже в темноте видно было только расплывшиеся силуэты и тусклые лампы под потолком, там ещё и решётки были ржавые (их красили весной, но к концу лета они опять становились грязно-рыжими).
Всякий раз, проходя мимо, я начинал сильно хотеть быть рабочим именно этого завода.
Оказывается, люблю удивляться и учиться.
Лакуна
В ту пору граница Уфы на западе проходила по аэродрому, дальше был лес, городская свалка перед лётным полем и далеко за горой, поросшей лесом, город Черниковск, где находилось несколько нефтеперерабатывающих заводов, станция «Бензин» и было много нефтехранилищ, было там и поселение для бывших зеков «Пятый квАртал».
Наши городские называли этот городок «Черниковка». Позже туда перевели Уфимский Нефтяной институт и выстроили шикарный Дворец культуры «Нефтяник» с прилегающим к нему большим сквером, на центральной улице выстроили «небоскрёбы – восьмиэтажки». Провели туда и трамвай, который сворачивал к Черниковке посреди леса и ходил до Моторного завода и стадиона им. Гастелло.
Позже, ещё дальше, в тридцати километрах от центра города, по правому берегу Белой в Новоалександровке были выстроены ещё два огромных нефтехимических комплекса: Новоуфимский НУНПЗ и Синтезспирт (впоследствии Синтезполиэтилен).
В этом Черниковске на нефтеперегонных заводах и нефтебазах примерно раз в 2 года случались страшные пожары с взрывами и их тушили всем миром, а дед мой ездил туда для оказания медицинской помощи, т. к. врачей тогда не хватало, не было ни медицины катастроф, ни министерства по Чрезвычайным ситуациям.
На этих пожарах гибло множество людей, ходили слухи о сгоревших заживо, вместе с пожарными машинами, пожарных, но рассказывать об этом было запрещено категорически и в местных газетах нельзя было найти ни строчки о происшествии. Один из таких пожаров случился зимней ночью в 1952, и зарево освещало улицы как днём, хотя до очага пожара было километров 35. Рано утром я бежал в школу по улице, залитой колеблющимся багровым светом. Было очень страшно. Следующий был в самом конце весны 1954 и сопровождался взрывами, которые тоже были слышны даже у нас дома в окно кухни и с дедушкиного балкона были видны отдельные языки пламени, а облако чернильного цвета занимало две трети небосвода, потом горело в 1956 и в 1958, и в 1960. А в 1962 полностью сгорела обувная фабрика в самом центре города на Чернышевского (этот пожар мне довелось увидеть).
Вообще в детстве я мечтал побывать при извержении вулкана, находиться в эпицентре землетрясения или тайфуна, чтобы вокруг всё рушилось, горело, взрывалось, как на картине Карла Брюллова «Последний день Помпеи», ясное дело, мне бессмертному при этом ничто бы не грозило. Вот был ещё и военный радиозавод на Карла Маркса, на горе, который горел постоянно, за что в городе его так и называли – «Горелый» (по странному стечению обстоятельств теперь это Дворец культуры).
Дважды наблюдал я горевшие при посадке и взлёте большие пассажирские самолёты, их удалось потушить и эвакуировать пассажиров. Однажды двухмоторный «Дуглас» рухнул прямо на свалку, не дотянув до посадочной полосы метров 200, о жертвах той катастрофы я так ничего и не знаю и не слышал от городских сплетников, но, к счастью, упавший самолёт не загорелся, а когда я появился на свалке спустя дня три, бродяги уже вовсю сновали по всей этой куче исковерканного алюминия и что-то искали в обломках (скорее всего деньги и уцелевшие вещи); оцепление к тому времени уже сняли, а нас бродяги гоняли нешуточно, эти могли и убить.
А один раз лицезрел вместе со своими приятелями такую экстремальную картину: влетает «кукурузник» с пассажирами и в момент отрыва его от взлётной полосы вспыхивает двигатель, почти сразу из окошка в кабине появляется рука пилота в огромной белой (асбестовой, наверно) рукавице и быстро сбивает пламя. Самолёт взмывает в небо и улетает. Такая вот будничная зарисовка, по-видимому, такое случалось постоянно (я в тех краях тогда находился редко ввиду отдалённости от дома) и уже с тех пор мне часто снятся подобные аварии и другие техногенные катастрофы.
Техногенные ужасы и тогда происходили частенько и вовсе это не примета века XXI.
Лакуна
До Нового года мы писали простым карандашом, по затейливо разлинованной сетке в тетради для первого класса, были ещё «прописи» с образцами правильного написания букв и цифр (те, кто не смог овладеть каллиграфией в полном объёме писали карандашом и всю третью четверть). Тетрадки той поры выпускались разные: были 12-листовые из обычной книжной бумаги с вложенным листом промокательной бумаги перед обложкой, были тетради, сложенные из особой глянцевой «лащёной» бумаги, были тетради в 24 листа и «общие» тетради в 48 и более листов. Тетрадки обязательно выпускались разлинованными: в клетку (для арифметики) и в линейку для письма (для первого класса разлиновка была сложная, для остальных классов начальной школы попроще, а для старших классов просто в ровную полосочку), в тетрадках из «лащёной» бумаги были отпечатаны даже поля красной вертикальной полосой, в остальных тетрадках поля мы отчёркивали сами красным карандашом. Обложки тетрадей содержали штамп для вписывания личных данных на аверсе и различные полезные сведения на реверсе (на тетрадках в клетку это была таблица умножения).
Тогда школьники писали линией разной толщины, были жирные и волосные линии, и важно было правильно распределять усилия руки при письме. Для развития этих навыков мелкой моторики был даже, ненавидимый мной, предмет «Чистописание» из-за него я так и не стал круглым отличником (первое время меня это обстоятельство страшно огорчало).
После Нового года мне было разрешено писать перьевой ручкой и чернилами – началась эпоха измазанных в чернилах рук, носа и щёк, и уж конечно одежды. Тетрадки быстро превращались в растрёпанные и заляпанные брошюрки, все страницы украшали замысловатой формы кляксы. Перья быстро выходили из строя, вследствие чрезмерных усилий при начертании жирных линий (позже я научился из пёрышка делать дротик, прикрепляя к нему бумажный стабилизатор, поэтому постоянно требовал новые перья у мамы). Мечтой была металлическая ручка, потому что, если вытащить из неё вставки с перьями, получалась отличная плевательная трубка для бомбардировки соседей жёванной промокашкой. Перья выпускались самые разнообразные и номеровались по типам: были светлые с «капителькой», серые «лягушки» и прямые «Серп и Молот», самые мной любимые были умбристые со звездой № 12, а ещё я нашёл в бабушкиных вещах их аналог, только там цифра была 86, с двуглавым орлом Российской империи, были ещё специальные для писания тушью, узенькие, дававшие очень тонкий штрих (эти я берёг – ни у кого из моих знакомых такого богатства не было).
Зато «Рисование» самый мой любимый предмет и я рисую на всём и на всех уроках, улучив момент. Рисую везде где придётся: в тетрадях, в учебниках, на парте, на доске в переменку, на подоконниках и т. п. Люблю «Арифметику» и «Родную речь» (но и они к концу года тоже изрисованы в три слоя). Читаю много всего подряд, а во втором классе уже умудряюсь читать и на уроках, спрятав книжку в парте.
Я не всегда понимаю прочитанное, тогда пристаю ко всем встречным с многочисленными и глупыми вопросами. Вскоре взрослые стараются побыстрей миновать то место, где они замечают мои распахнутые уши.
А время бежит, и вот уже я обзавожусь в классе друзьями, и мы много времени проводим вместе. Естественно, дружим мы уже до гроба.
К друзьям меня всегда отпускали безотказно. Один из моих ближайших друзей мальчик Королёв Слава, страдающий тяжёлым недугом – он был горбат, но совсем не был ни злобным, ни замкнутым. Был он весёлым и в меру болтливым. Жил Славка неподалёку от нас в старинном (XIX века) дворе Тукаева, 33, в левом флигеле, в малюсенькой коморке под самой крышей, с крытой внешней лестницей туда, я помню, завидовал, по своей детской наивности, такому «шику». Дом был старинный, из красного, грязного внизу, кирпича, на улицу выходил красивый фасад, только на одно помещение, зато и крыльцо было отменное – кованный ажурный козырёк и железная ажурная лесенка в две ступеньки. Остальные квартиры выходили во двор и уж там никакого шика не наблюдалось. Картину оживляли крохотные палисаднички, усаженные цветами и деревцами, по стенам вились побеги вьюнка, который цвёл розовыми вороночками. Двор был мощен каменными плитами и был очень чистым.
Жил Слава вдвоём с мамой – тихой, убитой постоянным горем женщиной, других родственников у него я не видел, хотя на стенах по обычаю того времени было развешено множество фотографий. Долго находиться у него мне было неинтересно, потому что у него негде и не во что было поиграть, я забирал его с собой, и мы отправлялись в мои хоромы играть и мечтать о далёком будущем. Очень часто у меня собиралось и по нескольку друзей одновременно. Тем более что ни мамы, ни тётки днём дома не бывало, да и дед не часто работал дома, а остальное население моей квартиры не лезло ко мне по пустякам, разве что к столу приглашали всю компанию.
Друзья – это здорово!
Продолжение следует…
