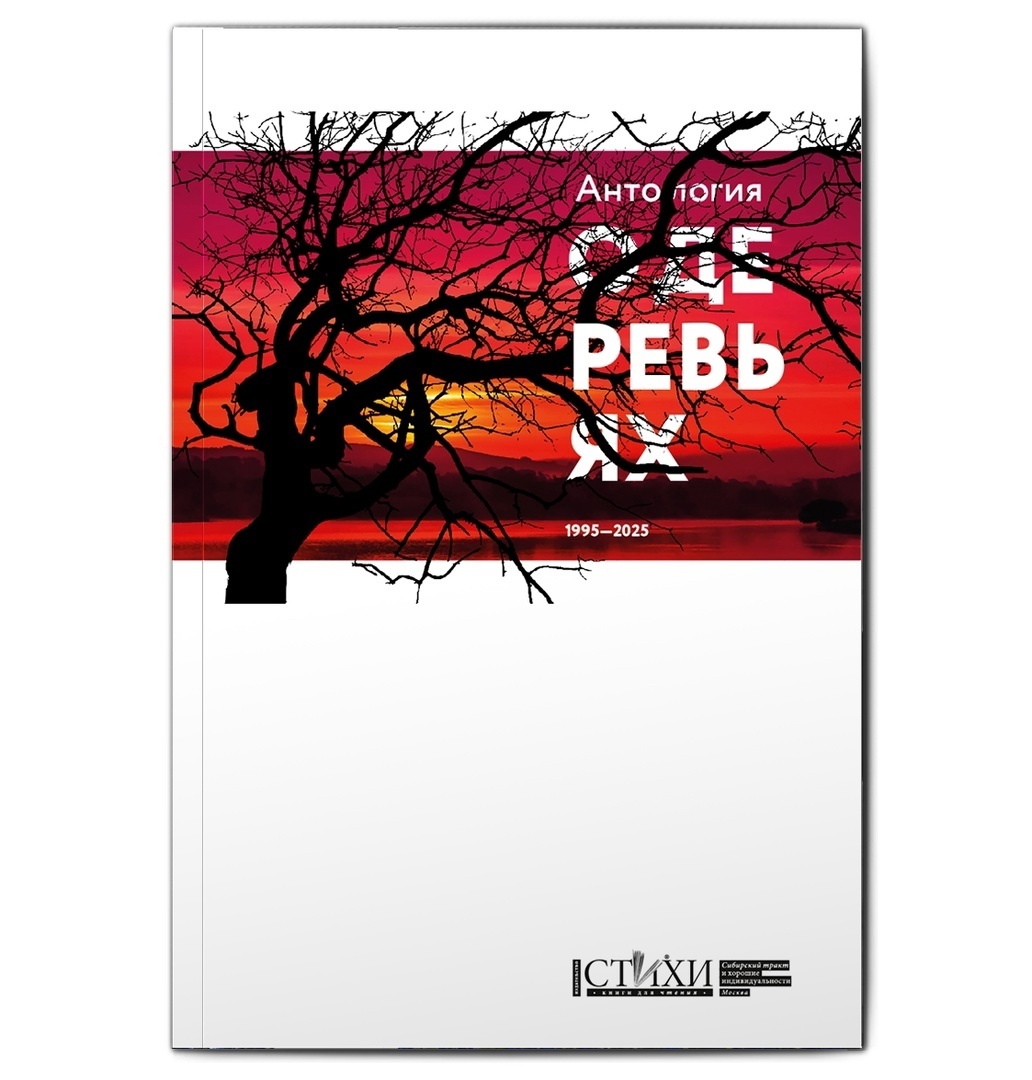Разговор
Рассказ

Когда я во второй раз в жизни был в Праге, проездом всего на несколько часов, то уже знал, как проведу время. В свой первый приезд за два коротких дня я пробежал все основные достопримечательности чешской столицы. В первый день туристические объекты — Пражский Град, Карлов мост, Ратуша с часами, Собор Святого Вита, а второй посвятил уже целенаправленному поиску зданий или других объектов, связанных с любимым моим писателем — Францем Кафкой.
В тот раз я обнаружил с десяток знаковых мест, где отметился присутствием гениальный австрийский изгой. Среди них гимназия, в которой учился Кафка. Особенно запомнился небольшой кабачок рядом с Вацлавской площадью. Именно туда я теперь и направился. Вошёл, огляделся, снял пальто. Ранний вечер, но посетителей уже половина зала: международный туризм не даёт замирать в Праге ни ночной, ни дневной жизни.
Я сел за ближайший свободный столик, ко мне подошла миловидная чешка и я по-русски (здесь все официанты понимают русскую речь) заказал бокал пива и сухарики. Оглядевшись, я увидел, что публика здесь, как всегда, самая разношёрстная: пожилые корейцы, несколько молодых американцев, вечные немцы. И вдруг заметил в углу кафе фигуру, очертания которой показались странно знакомыми. Но ведь я никого не знаю в Праге! Кто бы это мог быть?
Официантка принесла моё пиво, я сделал освежающий глоток и вновь взглянул в угол. Человек повернулся ко мне, и я узнал в нём… О, боже. Это был Франц Кафка собственной персоной. Сомневался я не долго. Поднялся со стула и сделал несколько шагов.
— Извините, вы — Кафка? Франц Кафка?
Человек внимательно посмотрел на меня.
— Да, так меня зовут… Мы знакомы?
— Нет, но… но… «Замок», «Америка», «Превращение»… я прочёл все ваши книги… Я восхищён… Можно мне присесть к вашему столику?
Кафка кивнул:
— Что ж, присаживайтесь.
— Вы знаете, я… я прочесал все места в Праге, связанные с вами: дома, кафе, гимназию, памятники…
— Памятники? Они очень странные. В начале они ужасно бесили меня… Но теперь я уже привык.
— Да-да, я понимаю, почему. Франц, — можно я так буду вас называть? — я задам вам несколько вопросов?
— Прежде всего, представьтесь, молодой человек.
— Да-да. Забыл. Меня зовут Ярослав, я русский, мне 31 год и я пишу книги.
— О, достойно. Сколько книг вы издали?
— Пока только одну, но у меня…
— О, одной вполне достаточно… Вы уверены, что вам нужно продолжать?
— Нет, совсем не уверен. Но я фаталист, то есть, верю в свое призвание и верю, что если жизнь позволит мне — я напишу и издам еще несколько…
— Что ж, неплохой ответ. Пожалуй, я не буду отговаривать вас издаваться. Хотя всё неудачное лучше сжигать. Именно это я и завещал сделать Максу.
— Броду? Максу Броду? Да, я, конечно, читал об этом. И каков результат?
— Насколько я слышал, он издал все мои романы, рассказы, а также дневники и личные письма.
— Именно… Вы злитесь на него?
— Нет, теперь уже всё равно. Лично я остаюсь при убеждении, что количество вовсе не важно. Одна книга или десять? По-моему, я всё сказал уже в «Созерцаниях».
Мы помолчали.
Тут взгляд мой упал вниз, и я увидел на столике писателя бокал тёмного пива.
— Вы пьете пиво? С вашими лёгкими?
— Да, пью. Полагаю, что теперь уже можно.
— Да, конечно…
Мы помолчали. Кафка спокойно смотрел в зал, молчание его не тяготило. Наконец, я собрался с духом для самого важного для меня вопроса.
— Франц, я хотел бы… Вы знаете, мой главный вопрос к вам — зачем писать, для чего?
— А вы сами до сих пор не ответили на этот вопрос?
— Кое-какие соображения есть, но я бы хотел услышать гения…
— Гений? Это вы про меня? Хм… Нет, я не претендую вовсе на это звание… Если говорить всерьёз — мне кажется, что слова создают себя сами. Есть ощущение, что они используют нас, писателей, как проводников. Мы говорим не потому, что нам есть что сказать. Слова сами прилетают из высших сфер и заставляют нас склоняться над листом бумаги, черкать и править очередной текст.
— Вы так считаете?
— Поверьте: роль писателя преувеличивают. Вернее, преувеличивали… Сегодня, в наше суетное время, люди совсем мало интересуются нами, узниками слов…
Писатель замолчал, задумался. И вдруг заговорил быстро, почти скороговоркой.
— Вы спрашиваете меня — зачем писать? Но это ведь почти необъяснимо. Творчество — это ведь приговор, судьба. От него не отвертеться одним словом или жестом. Писать — это ведь так много. Писать — это раскрываться до самого дна, писать — это быть творцом и пытаться понять замысел Творца, писать — это жить напряженной, интенсивной жизнью на пределе всех своих способностей. Ну, и много чего еще… Это и есть самая привлекательная сторона писательской судьбы. Есть, правда, еще: неспособность писать, беспокойство, шаткое положение, непризнанность…
— Ну, Франц, вам-то жаловаться не приходится… Ваша задача выполнена. Только что я обошёл всю Староместскую площадь и заглянул в три книжных магазина. Там везде ваши книги — в первом ряду, в десятках разных изданий… мне лично кажется — это громадный успех!
— Да? Что ж, приятно… Но всё же я не об этом…
— А о чем?
— Вы сказали — задача выполнена. Я вот сейчас задумался — победа ли, поражение вся моя жизнь в литературе? Если смотреть на жалкую мою биографию, болезни, неудачную карьеру — поражение, но мне почему-то кажется, что где-то в трудно определяемом смысле я действительно победил.
— Я думаю, это бесспорно. Вы — победитель.
— Возможно, но всё-таки… Слишком сильно в это верить нельзя… если мне и удалось стать первым, то вовсе не в том, о чём вы думаете.
— Да?
— Да, я говорю не о творческой победе своих новелл и романов. Я говорю не о тиражах книг. Главное — это то, что я боролся, я не уступал…
— Не уступали чему?
— Инерции жизни, слабому здоровью, отцу, службе. Но ведь, в итоге, только поймите меня правильно, это не была борьба с чем-нибудь другим. И отец, и фабрика, и Дора, а главное — литература — всё это я и есть. Если я и боролся когда-нибудь, — то только с самим собой. Это была громадная внутренняя битва.
— Битва? И вы победили?
Кафка взял свой бокал с пивом и не торопясь сделал несколько глотков.
— Я так думаю. Но я не уверен. Главное — это то, что я никогда не искал счастья только для самого себя, я всегда оставался ещё и на стороне своих друзей, любимых, даже врагов…
— О, да. Я помню ваш замечательный афоризм: «В поединке между собой и миром оставайтесь на стороне мира».
— Что ж, наверное, он и об этом тоже. Я думаю, эту фразу можно понимать и так: не разрешай своему эгоизму стоять на дороге великого течения жизни, устранись, смирись, благослови всё то, что тебя питает, всё то, что убьёт тебя потом.
— Но разве это возможно?
— Ну, а почему нет? Лишь наше самолюбие делает из препятствий жизни и смерти монстров. Мы видим врага там, где его нет.
— И всё же, Франц, 40 лет — это ведь так мало…
— Не думаю. Мне кажется, я всё сказал. Даже романы — я ведь не дописывал их сознательно. Это просто приём, художественный метод, который никто из критиков так не понял. Так всегда говорят — ах, он не успел, ах, он умер молодым. Но я вот не могу представить себе Клейста или Лермонтова, пишущих до глубокой старости.
— Да уж…
— Конечно, я всегда знал, что писательство — главное приключение моей жизни, я выделял творчество и надеялся принести словом определенную пользу, но…
— Что, Франц?
— Но я еще и хотел жить жизнью, насыщенной настоящей жизнью. Именно поэтому мои мать, отец, сестра Оттла, Макс, некоторые друзья и Дора значили в моей жизни не меньше. Именно люди, близкие и далёкие, сделали мою жизнь подлинной и счастливой. Ну, почти счастливой…
Кафка улыбнулся, но как-то грустно.
— Вы очень ценили Дору?
— Я ее любил. Моя последняя и главная любовь была удивительна и прекрасна, хотя продлилась совсем недолго. Но… я ведь говорил: важно то, что это произошло, случилось. Я пытался сделать жизнь Доры, Макса, Милены, Оскара и других людей чуть лучше, я пытался отдать им себя. Получалось, безусловно, не всегда, но я попробовал…
— Вы думаете, это и есть человеческий предел?
— Не знаю. Мне кажется, что у Гёте, Толстого или Бальзака получилось бы лучше. Но это ведь писатели совсем иной сути. Крепыши плоти, великаны духа. Я никогда не мог уподобить себя им. Но… я всегда знал, что у меня тоже что-то получится в литературе, только получится по-другому…
Он снова замолчал, задумавшись.
Я хотел продолжить спрашивать, но тут на сцену кабачка начали подниматься музыканты, они суетились, шумели, подключали аппаратуру для живого концерта. Я взглянул в небольшое окно. Была уже ночь.
Писатель вдруг заторопился.
— Извините, Ярослав, но мне нужно идти. Не слишком я люблю современную музыку.
Я понял, что Кафка исчезает, но повлиять на его решение уже было нельзя.
— Что ж, жаль, Франц, у меня оставались вопросы. Но… Я вас благодарю… Вы подарили мне самый интересный разговор в жизни.
— Ну-ну, молодой человек, вам всего-то 30 лет. Вы не знаете, что может подарить вам жизнь. Постарайтесь не утратить интерес к ней. Ну и, если сможете — не бросайте литературу. Она ведь и есть настоящее чудо… Впрочем, такое же, как и сама жизнь. Прощайте.
— Нет, нет, не говорите этого слова! Только до свидания!
Он немного грустно улыбнулся, надел на голову свой котелок, снял с вешалки темно-вишневое пальто и еще раз коротко, с непонятным выражением взглянул на меня, а затем скрылся в чёрном проеме выхода.
Я остался один. Заиграл джаз-рок. Заказанное пиво всё еще стояло на столике. Я вновь пересел, и мне показалось, что только что у меня родилась идея очередного рассказа. До моего поезда оставалось два часа. Писать так писать. Боясь расплескать и забыть идею, я не спеша достал из рюкзака ручку и записную книжку.