Солнце всходит и заходит. Часть девятая
Жизнь и удивительные приключения Евгения Попова, сибиряка, пьяницы, скандалиста и знаменитого писателя
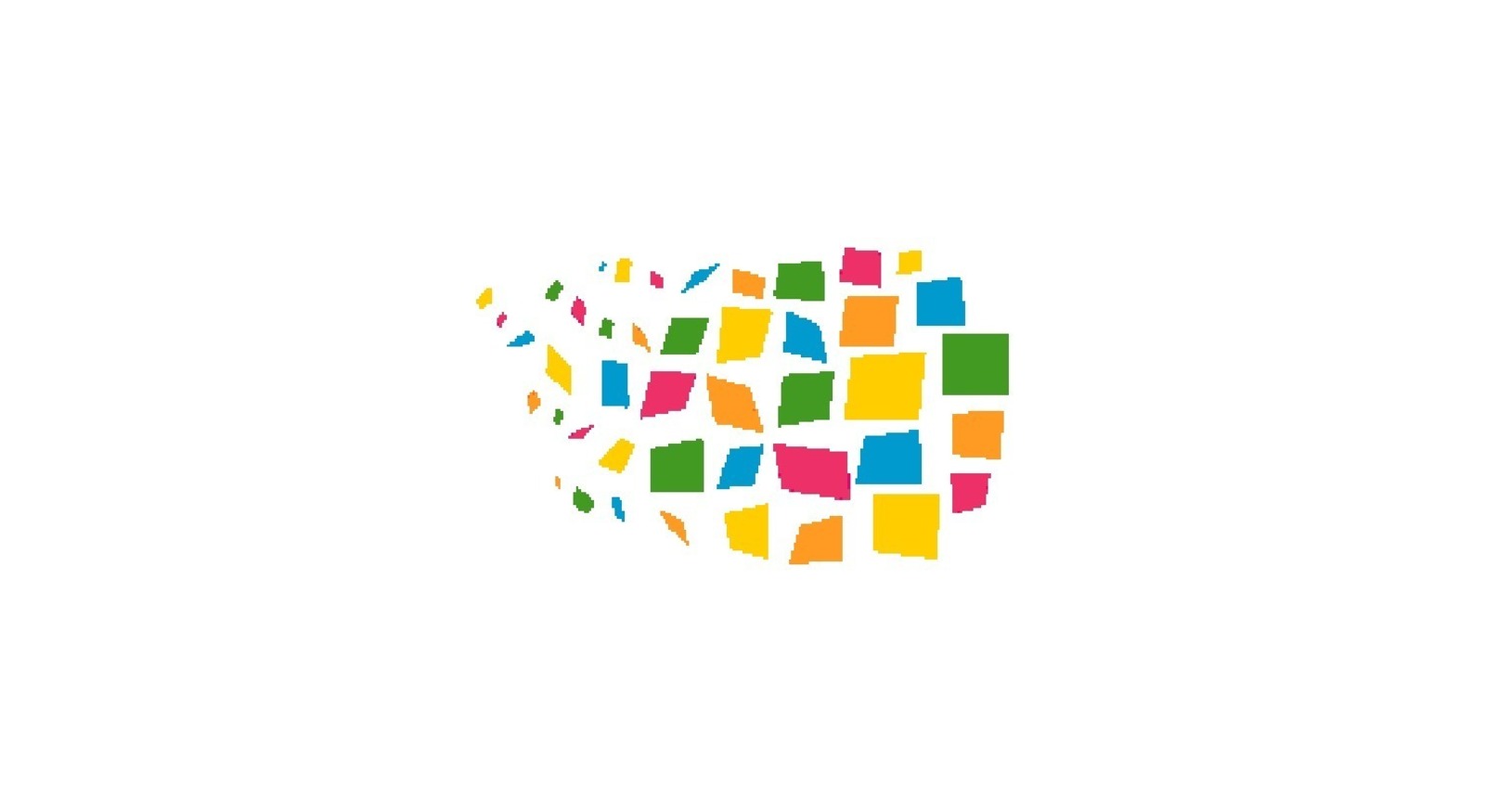
Очень много Солнцев работал с молодежью – и в журнале, и на совещаниях молодых литераторов, и в знаменитых Липках. Считал это принципиально важным, писал так: «Если говорить о писателях, сегодня место писателя – в школе, в институте. Великая русская литература, нравственная, гениальная, НЕ ПРОЧИТАНА сегодняшней молодежью, я уповаю на нее (Великую литературу), я уповаю на людей с жизненным опытом и выстраданной установкой на патриотизм, которые придут к детям, к юношеству».
Но самое главное – Солнцев успел выпустить более тридцати книг стихов и прозы. По его пьесам ставились спектакли в театрах Москвы, Красноярска и других городов, по его сценариям были сняты фильмы «Запомните меня такой», «Торможение в небесах» (по пьесе-знаменитому перестроечному хиту; главный приз кинофестиваля в Страсбурге в 1993 г.), телесериал «Трое на красном ковре…». Итогом его писательской работы можно назвать роман «Золотое дно» (который нравился, например, Аксенову, писателю совсем другого склада и направления). Получил множество премий и литературных наград, выходил в финал «Русского Букера». Его стихи и прозу хорошо знали и хвалили многие выдающиеся люди, причем люди самые разные, кажется, ни в чем другом не схожие – от Симонова и Твардовского до Вознесенского и Аксенова.
«Роман Харисович был центром всеобщего притяжения, мы вращались вокруг него, как планеты вокруг солнца. Вроде бы каждый был самодостаточным, летел по собственной орбите... но в то же время и вокруг Солнцева! И он всем отдавал достаточное количество тепла. Это тепло, этот свет не иссякли до сих пор» – так вспоминают о нем в Красноярске.
Ну это все, так сказать, официальная версия жизни хорошего энергичного человека.
Наш-то герой помнит его не то чтобы совсем другим, но разным. Да он и был разным, и уж менее всего важным, официальным…
Солнцев был во многом прав, аттестуя себя уже в «нулевых» таким образом «Я наивный деревенский стихотворец, кем был, тем и остался. Клянусь вам».
Вот, например, стихотворение 1964 года «На уроке физики» (как помним, образ физика-поэта особенно понравился Вознесенскому). Всего четыре строки.
Любовь свою, тоску земную
Сожму в зубах…
Знак заземления рисую,
Как женский пах.
Не правда ли, странный физик? Конечно, это во многом «под Вознесенского», причем описанное сходство «схвачено» довольно точно – и вряд ли кто до Солнцева такое сходство заметил. Но хоть и под автора «Озы» и «Лонжюмо», а как-то простодушнее, что ли. Искренне так сказано, и про любовь, и про тоску… Мэтр такого себе не позволял.
А вот еще неожиданная характеристика Солнцева от нашего героя: «Мы подсмеивались над его мнительностью. Электронных аппаратов для измерения кровяного давления тогда еще не имелось, и юный Роман частенько (особенно после крупных наших возлияний) хватался за сердце, любил шепотом считать число ударов собственного пульса, но добился лишь того, что про него красноярская богема сочинила следующий анекдот: «В Красноярском аэропорту по подозрению в шпионаже арестован поэт Роман Солнцев, который, для отвода глаз держась одной рукой за другую, тайно считал, сколько самолетов находится на летном поле». Кстати сказать, посещая уже после как «официальный» писатель заграницу, то есть бывая на многих и многих летных полях, Солнцев неизменно старался привезти своим «невыездным» друзьям скромные (по грошовым командировочным) подарки. Нашему герою, например, часы….
Евгений Попов вспоминает о своем друге, как о человеке, не лишенном и своеобразной наивности, и простоватой, крестьянской хитрости. Ну и любившем, соответственно, проводить время по-сибирски, с друзьями и большим количеством алкоголя. Как-то проснувшись после такого рода посиделок, наш герой обнаружил на своей физиономии следы вчерашнего буйного веселья. В частности, шрам под подбородком – парный, полученный на макаронной фабрике. Теперь и тот, и другой скрывает знаменитая поповская борода. А происхождение шрама так и осталось загадкой, никто из друзей ничего не помнил...
За год до нежданно-негаданной смерти (онкология) Солнцев написал прекрасные строки:
Романтик был, простого норова…
Родня мне: русичи, татаре…
Сгорел, как верный пёс, которого
Не отцепили при пожаре.
В эти стихах есть и горькая самоирония, и гордость за свою судьбу, которая, несмотря ни на что – удалась.
Говорит Евгений Попов
На свой день рождения в январе 2007 года я получил от него следующие шутливые стихи:
Твой отец был мильцанером,
Мой отец был мильцанер.
Не был твой отец примером –
Пил… и мой не ведал мер…
Ты – Попов, а я – Суфеев,
Что, по сути, есть Попов.
Ведь суфисты лиходеев –
Атеистов, как клопов,
У мечетей жгли и били…
Значит, милый человек,
Ты – Суфеев в полной силе,
Я ж – Попов на весь мой век.
Ну а то, что есть и Солнцев
В родове, и Иванов…
Я хотел быть Билли Бонсом,
Но ведь лучше, что – Попов!
У тебя жена – Светлана,
И моя вся – Божий свет…
Милый, нам с тобою рано
Помирать, резону нет!
Через четыре месяца его не стало…
Паустовский/Зощенко
Общение-общением (то есть, пьянки с приятелями-пьянками??), но наш герой продолжал писать. И читать. Эти процессы находились у 17-летнего литератора (как и у большинства его сверстников во все времена) в непонятной зависимости. Например – взахлеб читал Паустовского и писал вот такие рассказы.
ПАПИРОСЫ «САЛЬВЭ».
И все-таки это началось в Одессе.
Было начало августа, и жара высветляла лазурь террас, гнала туда-туда, в море, в теплую солоноватую воду, с головой, весело фыркать, доставая бурого испуганного краба.
Я так и делал. Бросал котомку на берегу, натягивал, стыдливо прячась за шершавой скалой, плавки и брызгался, хохотал, а потом сидел на прохладном зеленом валуне, слизывая соль с губ. Славка уже кричал с берега:
– Сэр, кушать!
– Ушять, ушять, – разносилось.
Я становился на колени и с гнусавым воплем летел в воду. Потом осторожно плыл, не вставая на ноги до самого берега, боялся порезать ноги ракушками.
Мы сдирали золотистую кожицу скумбрии, жаркой, пахнущей солнцем, жадно, боясь потерять малейший кусочек вкусного жирного мяса.
Блаженно отдыхали, положив рубашки на голову.
Славка читал стихи:
«Ах, не молния ли стукнула о брус или сочно раскололся арбуз» (Стихи Юрия Панкратова, модного тогда. В провинции тогда еще не знали, что он и И. Харабаров предали Пастернака – как прокомментирует много лет спустя Евгений Попов).
Мы вонзали зубы в алую мякоть, а потом опять в море, в море, в пену, в пену!
Вечером шли пыльной, истоптанной тропинкой, петлявшей вдоль берега. По дороге напивались из чудотворного источника, текшего, как утверждали местные жители, из самого сердца катакомб».
Не правда ли, милая миниатюра? Милая! Вот уж чего нельзя будет сказать ни про один из рассказов «классического» Евгения Попова! Видна работа над каждым словом, видно ритмическое расположение не предложений даже, а «периодов»… Может быть, это даже более «изящно», чем у Паустовского. Который, как известно, всю жизнь пытался уйти от гиперромантичности и «изящности» своих ранних вещей (по нашему мнению – иной раз и во вред творчеству).
Как можно легко догадаться, описано купание в Черном море ДО, а не после настоящего посещения нашим героем Одессы, описанного нами в прошлой главе. Жизнь снова подражала искусству, вернее наш автор, как будущий деятель русского постмодернизма, заставлял ее это делать.
Евгений Попов до сих пор удивляет проскальзывающее иной раз в критических статьях или отзывах писателей пренебрежительное отношение к Паустовскому. Он был настоящим мастером. А сколько имен он открыл юному читателю в своей «Повести о жизни» (включая, например, Булгакова)! Тогда наш герой еще не знал ни Олеши, ни Бабеля, но он чувствовал, что Паустовский в корне отличается от истинно советских, коммунистических авторов.
А еще: он был порядочным, честным человеком, хотя и жил в тяжелейшее время. Этого уже немало. Но, в конце концов, уже издание разгромленных официозом «Тарусских страниц» – несомненный акт открытого гражданского мужества со стороны Паустовского (вспомним, что именно это опальное издание пытливый подросток первым делом собирался купить в Питере).
Ну и не зря, не зря один из номеров журнала «Гиршфельдовцы» был отправлен по почте Паустовскому! И не просто номер: в нем был портрет Константина Георгиевича и поздравление с его юбилеем, 70-летием. Адрес узнали элементарно: в справочном бюро, за 30 копеек. Ответа, правда, не было, но не исключено, что автор «Золотой розы» хотя бы одним глазком, да увидел творение юных красноярских подпольщиков.
Но вот эпизод, рассказанный нашему герою Семеном Липкиным. Перед войной компания писателей, куда входили Аркадий Гайдар, Василий Гроссман и даже сам Андрей Платонов любила выезжать на Мещеру (прекрасно описанную Паустовским, одним из членов той кампании). Там писатели, естественно, ловили рыбу, крепко выпивали и любили весьма жестко подтрунивать над сентиментальностью рассказов Паустовского. Тот – терпел, и в силу мягкости характера, да и соглашаясь, видимо, с бесцеремонными критиками. В общем, не без основания….
При этом нашему герою в детстве и ранней юности нравились и такие эмоционально-приподнятые вещи Паустовского, как «РОМАНТИКИ». Лирика, колорит, нервные отношения людей (отсюда и приведенный выше рассказ «Папиросы «Сальвэ»). Безукоризненный, неповторимый стиль. «Я рассказы писал а ля Паустовский, пока не стал ездить в экспедиции. Странно! «Учитывая, что жизнь и без экспедиции была в СССР «веселая», – скажет много лет спустя Евгений Попов. Путь Паустовского в полной мере никогда не был и не мог стать его писательским путем.
Обратим внимание, что при этом наш герой ценил и Зощенко. Собственно, стал пристально читать уже позднее, зато слышал его прозу с самого детства: в семье была довоенная грамофонная пластинка, где знаменитый Хенкин читал еще более знаменитую зощенковскую «Аристократку».
Нашему герою всегда была и остается близкой зощенковская позиция по отношению ко всей этой советской «социальной инженерии». То, что филолог Александр Жолковский (знакомый писателя Евгения Попова) метко назвал «поэтикой недоверия». По мнению Жолковского, «Зощенко и другие писатели-нонконформисты предстают великими советскими художниками, глубоко отобразившими советскую эпоху. Ценность этого отображения состоит, однако, не в каком-то чудесным образом обретенном ими незамутненно-объективном критическом взгляде на советскую жизнь, а, напротив, в их теснейшей... причастности к ней – ее страхам, соблазнам и стратегиям». В общем, никогда не отделял себя от окружающей жизни и писатель Евгений Попов. Да, жизнь была сугубо советской – но, перефразируя известное высказывание, а где было бы другую взять?
В какой-то мере прозаика Евгения Попова можно «числить» по ведомству последователей Зощенко. «Это был язык моей среды, мещан, а не партийной верхушки», – говорит он об открытии для себя автора «Бани». Но главная перекличка, по нашему мнению, кроется даже не в области языка, а в части взаимоотношений с героями. Невозможно сказать, что Зощенко своих героев ненавидит. А вот любит ли? Пожалуй, тоже нет. Являются ли герои Зощенко «аватарами» самого автора? Разве что в малой степени, взгляд автора достаточно отстраненный, не осуждающий, но изучающий. Не герои Попова, а скорее «милицанер» его будущего друга Пригова может быть причислен к «зощенковской» модели отношений «автор-герой». Все же у Евгения Попова к своим персонажам куда больше и симпатии, и участия. Не случайно его заметил и отметил Шукшин, который относился к героям своих рассказов не сказать, чтобы с любовью и обожанием, но с вниманием и сочувствием. Но, конечно, зощенковский опыт для прозаика Евгения Попова был и остается важным.
Уже совсем скоро это проявится в рассказах. Больше всего «внешней» ориентации на Зощенко именно в ранних вещах Евгения Попова, построенных по схеме «анекдот+неординарная (иногда и прямо парадоксальная) языковая реакция на него». Например, рассказ «Электронный баян». В нем есть и «городская сказовая речь», в которой, как и у Зощенко, сплавлены просторечие, жаргонизмы и «канцелярит» («Вот только и было одно неудобство, что транспорт этот. А так, согласно всем требованиям нынешней планировки и градостроения, имелось у них в микрорайоне решительно все, что нужно современному человеку для жизни полнокровной, интересной, насыщенной в любом отношении»). Есть и незадачливый герой – «маленький человек советского города», которого вдруг оглушает сила искусства, с которым он просто не знает, что делать, как о нем говорить (нередкий поворот в рассказах Зощенко). Кстати сказать, это самое искусство здесь выглядит столь же сомнительным как у Зощенко – у него третьесортные театральные спектакли, здесь – электронный баян, натурально, подделка под искусство настоящее. Наличествует и парадоксальная реакция на столкновение даже с таким, сомнительным искусством – вспышка вербальной агрессии в отношении своей семьи.
Притом, вполне себе «психоаналитически» он обвиняет жену в том, в чем не смеет обвинить самого себя – так сказать, в мещанстве и бездуховности.
«– Выпил, что ли, с кем? – присматривалась жена.
Тут Петра Матвеевича прорвало.
– «Выпил»! «Выпил»! – заорал он. – Тебе бы все «выпил»! Тебе бы все пить да жрать! Кусочница! Живешь как карась подо льдом! И меня к себе в могилу тянешь? Да ты знаешь ли, как другие люди живут?»
Но есть, впрочем, и несвойственная Зощенко «романтическая» нота: живая и человеческая реакция на конфликт малоприятных фигур – матери и отца – их сына. Мать-то с отцом помирились, они одинаковы, а вот их маленький сын, пожалуй что и нет – «Петр Матвеевич тоже засмеялся. Они оба смеялись и колотили друг друга по мясистым спинам. И лишь сынок Витька смотрел волчонком. Слезы на щеках у него уже высохли, но губы были крепко сжаты».
Этот рассказ появится, конечно, позже, но уже в описываемое время, в старших классах, для нашего героя было вполне обычным сочетание несочетаемого: романтик Паустовский и жесткий сатирик-реалист Зощенко. В общем, с некоторым преувеличением можно сказать, что они, пользуясь словами Набокова, «встали по углам» его юношеского мира. Два остальных угла скоро, в Москве, займут Платонов и Булгаков. Впрочем, почему мир должен быть четырехугольным? В этой структуре количество углов бесконечно, их хватит и для Джойса, и для Шукшина, и для Аксенова…
При том, что, например, Бабель, которым нельзя было не плениться юному эстету и заочному любителю Одессы, сегодня смущает нашего героя эстетизацией насилия. Евгений Попов тут солидарен со своим соавтором по книге «Мы женимся на Лейле Соколовой» Игорем Яркевичем, сравнивающим Бабеля ни много ни мало с маркизом де Садом «У Бабеля и Сада немало общих тем и сюжетов. В частности, линия тела палача. По представлениям маркиза, палач, освобождающий землю Франции от Марии-Антуанетты, является самым настоящим гуманистом, поскольку делает свою работу во имя прогресса. А вот что испытывает его тело в момент опускания ножа гильотины? Является ли оно таким же хладнокровным и спокойным, как мозг? Что испытывает тело палача по отношению к несчастной дворянке, умоляющей на эшафоте: "Подождите, господин палач, минуточку, всего одну минуточку!". Палач, наблюдая конвульсии жертвы, не может остаться равнодушным. Он испытывает возбуждение и желание эти мучения продлить. В рассказах Бабеля и прежде всего в "Конармии" можно найти не один десяток веселых и бесстрастных описаний подобных "минуточек" (то есть многочасовых пыток и казней) и голов, катящихся в корзину революции».
У Зощенко, конечно, ничего такого нет и быть не может. Кстати: с Зощенко связан еще один бунтарский поступок нашего героя. Тогда в школе еще изучали приснопамятное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Вольномыслящий подросток заявил, что штудировать этот мерзкий документ о великих писателях и отвечать на вопросы по нему он не собирается. Понятно, больше из вредности, чем из политического диссидентства. Но тем не менее. И представьте, ничего ему не было! Две его учительницы литературы ( Г.Н. Тукалова и И.С. Василевская) любили его за «начитанность» и бойкий ум.
Итак, школа закончена, пора в столицы...И все-таки, еще раз вопрос – обязательно ехать? Почему нельзя было остаться в Красноярске или в 1963-м, или через десять лет, вернувшись из института? Пробиться, стать, в конце концов, красноярским классиком, как Солнцев или Русаков… И такой выбор вполне актуален для многих. Вот что пишет Евгений Попов в книге об Аксенове, а его соавтор, Александр Кабаков дополняет (как известно, книга написана как диалог Попов-Кабаков).
ЕВГЕНИЙ ПОПОВ: «Первая публикация – это его (В. Аксенова – М.Г.) стихи, посланные на конкурс в газету «Комсомолец Татарии», когда он еще был студентом Казанского меда. Сюжет: как студент, окончив университет, уехал по велению сердца на одну из строек Дальнего Востока(!). Ну, типа «Едем мы, друзья, в дальние края». В дальние лагерные края... Василий рассказывал, что занял на конкурсе какое-то там место и даже получил за это гонорар неплохой, который тут же пропил с товарищами и подругами. То есть вот и такая судьба могла быть. Мог бы быть советский поэт казанского происхождения Василий Аксенов».
АЛЕКСАНДР КАБАКОВ: Так бы и прожил всю жизнь в родном городе. Стал бы казанским классиком».
Обсудив эту историю, авторы книги пришли к простому выводу: да, теоретически говоря, возможно было и такое, но судьба, судьба. Для чего-то ей нужно было сделать писателем всероссийского масштаба и Аксенова, и его в будущем младшего друга – нашего героя.
Притом, как мы уже говорили, в Московских вузах ему были не больно-то рады. В 1963 году для поступления в любой гуманитарно-идеологический вуз, нужно было иметь после окончания средней школы два года так называемого «трудового стажа», «повариться в рабочем котле», «стать ближе к народу». Ну и членство в рядах ВЛКСМ подразумевалось как бы само собой. Ничего этого у нашего героя не было.
Продолжение следует…
