Все новости
ЛИТЕРАТУРА
25 Июня 2023, 17:00
Духовное родство поэтов
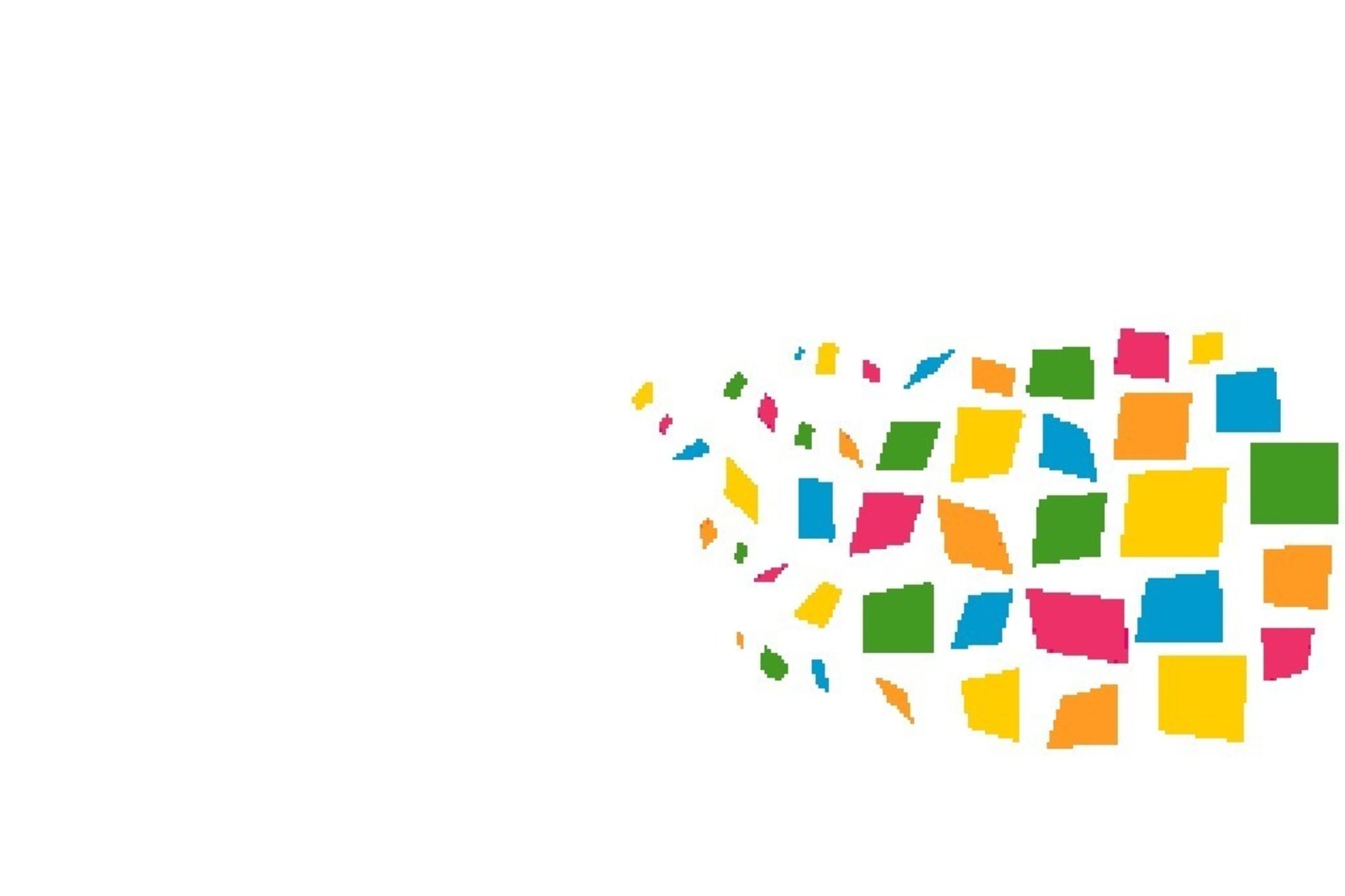
Кажется, Пифагору принадлежат слова: «Плоды земли вырастают один раз в год, а плоды дружбы – во всякое время». Обильные плоды дружбы между М. Каримом и А. Твардовским вырастали во все годы их общения.
Говоря об Александре Трифоновиче, Мустай Карим всегда боялся выспренности, приблизительных слов, понятий и оценок, так как «приблизительность – даже самая красивая – им отвергалась начисто».
Об огромном влиянии Твардовского на Мустая Карима красноречиво сказал сам башкирский поэт:
«Около четырех десятилетий я просто (может, не так уж просто) живу в атмосфере его творчества и более двадцати лет жил в атмосфере его личности, общаясь с ним в тех ситуациях и обстоятельствах, в которых сводили нас естественный ход жизни, наши литературные заботы, общественные обязанности. Что же имею я в виду, говоря об атмосфере Твардовского? Это прежде всего его кредо:
Горевать – горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать не хвастливо
В час победы самой.
А в творческом и житейском плане эту атмосферу я назвал бы состоянием внутренней напряженности, исключающей всякую расхлябанность, но не давящей тебя… Его присутствие само по себе исключало ложь и лесть, безликость и позу, суесловие и энтузиазм на потребу. Слово для него имело только вложенный в него смысл, и ничего иного».
А. Твардовского наш поэт, по его собственному признанию: «…знал разным – сосредоточенным и гневным, удрученным и веселым, добродушным и раздраженным. Только один раз видел, как он был грустен. Пожалуй, это была не просто грусть, а особое состояние, когда зачарованная душа парит над куполами и руинами собственного прошлого, оплакивая и благословляя их. В таком состоянии духа пребывал Твардовский в один из октябрьских вечеров 1965 года в Риме в гостинице “Континенталь”».
«Конгресс Европейского сообщества писателей шел к концу. (Кстати, на нем Твардовский выступил с блестящей речью.) Дня за два до нашего отъезда нам таинственно-торжественно сообщили: “Советскую делегацию будет принимать наш посол”. К назначенному часу мы принарядились как могли. Прием есть прием - дело официальное. Точно минута в минуту привезли нас в посольство. Делегация была весьма многочисленная. Наверное, человек двадцать, может, и больше. Встречающие работники посольства, обращаясь к каждому из нас, повторяли одни и те же слова: “Вас ждет посол...”, “Вас ждет посол...”
Нас пригласили в довольно большой кабинет. Посол, радушно пожав каждому руку, сел за свой рабочий стол и начал беседу. Он очень увлеченно и увлекательно рассказал об усилении экономических и культурных связей между нашими странами, о нашем контакте с фирмой “Фиат”, о политическом положении той страны, о многом другом. Рассказ продлился почти час. Мое место оказалось возле Александра Трифоновича. Он слушал сосредоточенно и внимательно. Он умел слушать, как умел говорить. Посол кончил свой рассказ. Более любопытные из слушателей задали несколько вопросов. На них хозяин отвечал охотно, но крайне лаконично. “Спешит, - подметил Твардовский, обернулся ко мне. - Вот сейчас он встанет и промолвит долгожданное: “Прошу в соседнюю хату, на скромную трапезу...”.
Посол действительно встал. Приветливо улыбнулся и сказал:
- Спасибо вам за внимание, товарищи, не отказали в любезности посетить нас. Желаю вам успешного завершения Конгресса и... творческих успехов. Всего хорошего.
От такого внезапного финала мы сразу не смогли встать, будто прилипли к стульям. Всегда находчивый и предупредительный Алексей Александрович Сурков поднялся первым и поблагодарил хозяина за теплый прием и интересную беседу».
Все вышли к машинам. Получилось так, что делегаты в основном жили в гостинице, расположенной рядом. Только М. Карим и Ираклий Абашидзе жили «на отшибе».
«Перед тем, - продолжает поэт, - как рассаживаться по своим машинам, Александр Трифонович с некоторым лукавством спросил меня: “У вас там на донышке не осталось?” - “Малость есть”, - ответил я. Он пересел в нашу машину и переманил к себе переводчика итальянской поэзии Евгения Солоновича - превосходного спутника. Все четверо, таким образом, в тот вечер, подаренный нашим послом, очутились в моем гостиничном номере. Скажи он: “Прошу в соседнюю...” - душа бы почивала в эту ночь в другом раю. Я потом много раз благодарил судьбу за этот случай. В Риме тогда сам воздух, казалось, был настоян на поэзии Данте Алигьери. Шел год юбилея великого поэта. Это всех нас настраивало на определенный лад. Соприкосновение с поэзией приобретало особый смысл и значимость. И в эту ночь я слушал Александра Трифоновича, читающего свои стихи, не с восхищением, даже не с признательностью, как обычно, а скорее с преданностью. Именно с преданностью. И он своим многокрасочным, сдержанным голосом будто не говорил, а мыслил и чувствовал. Вообще он в жизни нередко сдерживал и голос, и чувства, и самого себя».
Заходя в номер гостиницы, поэты сразу заговорили о стихах. «В те неблизкие уже годы, - продолжает М. Карим, - мы любили и умели по мере возможности обставлять чтение стихов в узком кругу... Стаканов у меня на всех не хватало, поэтому пустили чарку по кругу. Она оказалась весьма проворной, быстро обошла нас всех, потом повторно оббежала. Но не успела совсем разойтись, разгуляться, Александр Трифонович достал верстку со своими стихотворениями. Почему они у него оказались при себе, точно не знаю. Лишь предполагаю: видимо, он брал их на случай, если в посольстве попросят поэтов почитать стихи».
Разошлись поздно ночью. «Вернее, - пишет М. Карим, - они ушли, оставив меня. Вдруг я ощутил такое одиночество и безмолвие вокруг, будто один очутился в опустевшем храме, где только что торжественно и печально гремел орган. Дождавшись рассвета, я пошел бродить по городу. Почему-то добрел до Колизея. В это утро он, поверженный временем, но величественный, еще больше поразил меня своей несокрушимостью. Какие бои были на той арене, какие страсти бушевали на этих трибунах! Потом, несколько лет спустя, посетив больного Александра Твардовского, я вспомню то полуразрушенное, но внушительное сооружение и найду сходство между ним и великим поэтом, поверженным тяжелым недугом, но не сломленным».
Но это наступило попозже. Впереди же было шесть «полных и невероятно быстротечных лет». Впереди были еще несколько встреч. Редко виделись в редакции «Нового времени».
- Принесли? - спросил Александр Трифонович.
Не без волнения я протянул ему несколько своих новых стихотворений. Он не спеша прочитал, потом снова перелистал. Это были те несколько рискованных минут, когда я очутился наедине не только с редактором, но и поэтом Александром Твардовским. Даже в горле пересохло. Он поднял голову и так просто, так обыденно сказал:
- Будем печатать. Все. Переводы добротные. Есть две-три блошки. Их уберем. Тут к одному двустишию прилипла третья строка. Как думаете, если ее снимем?
Я согласился. То стихотворение, откуда убрали лишнюю строчку, он еще раз пробежал глазами. “Какое трагическое стихотворение про любовь...” - произнес он будто с сочувствием. Пожалуй, я впервые услышал от него одобрительный отзыв о стихах про любовь. Он не баловал любовную лирику вниманием и похвалой».
Но однажды Александр Твардовский поддержал Мустая Карима очень серьезно. Дело было так.
«Написав трагедию о башкирском национальном герое - поэте Салавате Юлаеве, - вспоминал М. Карим, - я дал своему сочинению название “Плач поэта”. Это название я оправдывал тем, что плачет не Салават, а современный поэт по Салавату. Куски из своей драмы я читал Кайсыну Кулиеву по дороге в Красную Пахру, куда мы ехали навестить Твардовского. Кулиеву не понравился “плачевный” заголовок. Я промолчал, но остался при своем мнении. Заголовок был красивый. У Твардовского Кайсын заговорил о моей драматической поэме, о ее названии, которое, по его мнению, не подходит для этого героического сюжета, оно сужает тему и идею произведения. Александр Трифонович поддержал его, при этом добавил:
- Дело даже не в сюжете. Дело в точности определения. Точнее названия, чем “Салават”, и не может быть для поэмы о нем. Ничто так верно и полно не скажет о Салавате, нежели его собственное имя».
Таким образом, мы в какой-то степени должны быть благодарны выдающемуся советскому поэту за то, что он отстоял название одного из прекрасных произведений М. Карима…
Шли будни, и наступило время, когда «вдруг неожиданно пришло то неотвратимое, роковое “потом”». Тяжело заболел Александр Твардовский. «И мы, - пишет М. Карим, - из шумных гостей превратились в беспомощных, но бодрящих посетителей, якобы полных надежд на благополучный исход. Болел он, как жил, - мужественно, не вступая в компромисс даже с собственной болезнью, не давая себе опускаться до уровня ее прихоти».
Предпоследний раз М. Карим встретился со своим другом в марте 1971 года. Приехал он к А. Твардовскому вместе с К. Кулиевым. «Он плохо двигался, - вспоминает М. Карим, - говорил с трудом. Но при нас он встал, оделся как на выход. Несмотря на наши уговоры остаться в домашних тапочках, надел туфли и завязал шнурки… Почти без посторонней помощи он дошел до стола. Сели. Хозяйка дома даже в эти дни не давала оскудеть своей скатерти, она была заставлена, как прежде. Даже вино было разлито по бокалам. Александр Трифонович тоже пригубил. Это делал он скорее для того, чтобы гостей не оставить без призора. Врожденный такт не покидал его до конца…»
Слов утешения посетители не говорили. Беду принимали так, как она есть. Прощаясь с гостями, жена поэта Мария Илларионовна сказала: «Теряем… Теряем. Такой клад неисчерпаемый…»
В последний приезд М. Карим и К. Кулиев слышали только дыхание Александра Трифоновича.
«Уходил из жизни огромный человек, как большой боевой корабль, медленно тонущий на горизонте... Он ушел из этого мира, немало знавший о нем, о нас – тоже», – писал М. Карим.
В статье «Старший брат», написанной сразу после кончины Твардовского, М. Карим обозначил его место и роль в литературе и жизни:
«В этот горестный час наша мысль о том, что унес он с собой, а то, что оставил, мы до конца поймем потом. Унес он не просто огромный и щедрый талант, но и частицу духовного бытия каждого, кто причастен к поэзии своей судьбой или своей любовью.
Как любой большой художник, Александр Твардовский оставил не только свои замечательные творения, но и высокое идейно-эстетическое мерило творчества. Его шедевры создали ту творческую атмосферу в поэзии, при которой стыдно не быть самим собой.
Он обладал еще одним редким талантом - быть старшим. Его человеческие достоинства всегда вызывали и уважение, и восхищение. Его Ум, равно как и Талант его, требовали обращения на Вы.
Возможно, иные из нас переживут его возраст, но он всегда останется для всех нас старшим».
Выбор редакции
КОЛУМНИСТЫ
1 Июня 2025, 11:00
Современный сэсен Башкортостана или О вопросах духовной, литературной и музыкальной иерархии в системе тенгрианства
КОЛУМНИСТЫ
21 Февраля 2025, 14:00
От первого лица
КОЛУМНИСТЫ
28 Января 2025, 10:00
Надо ли троллить писателя?
КОЛУМНИСТЫ
7 Января 2025, 11:08
150 НОМЕРОВ…
Новости партнеров
