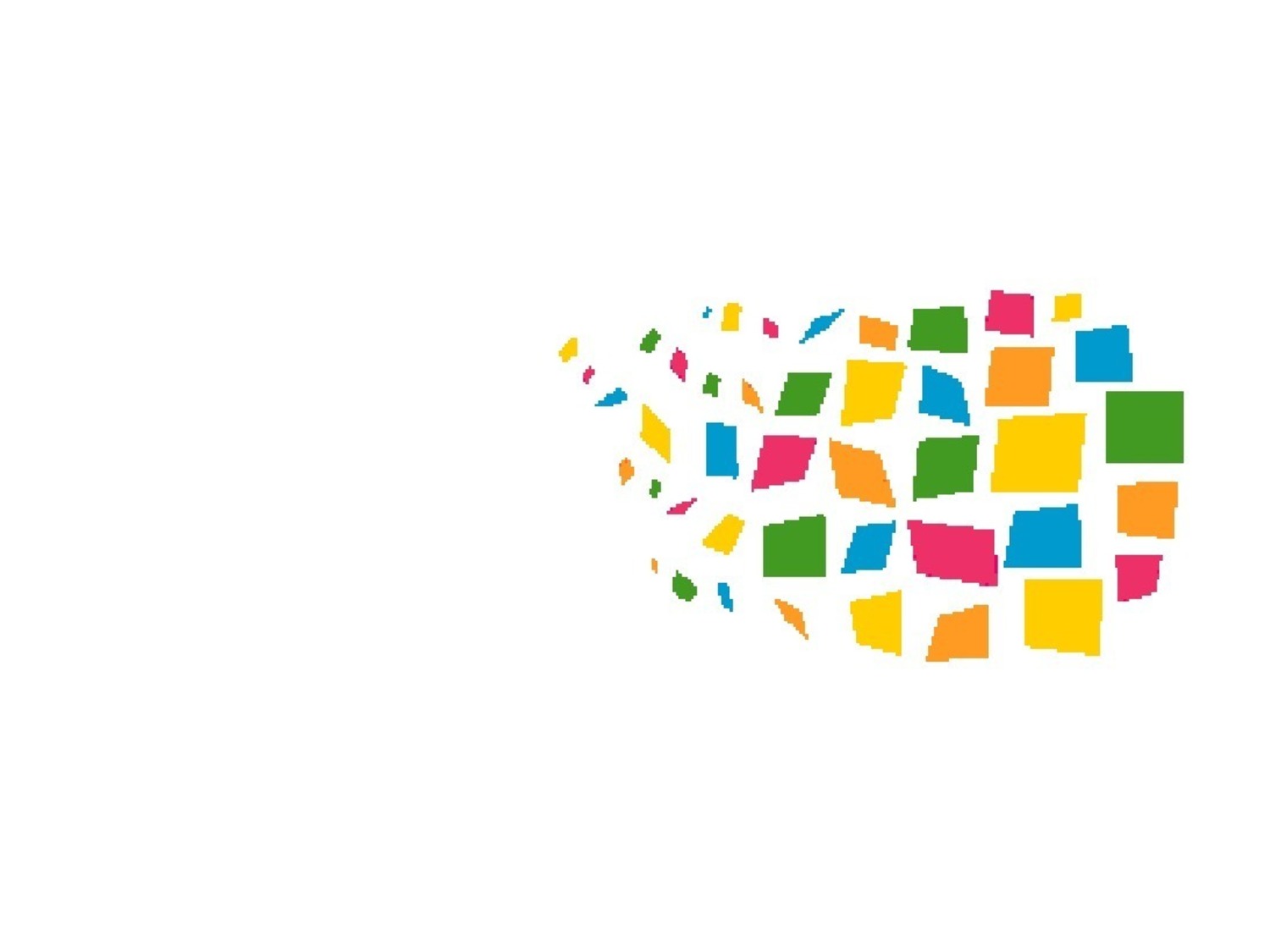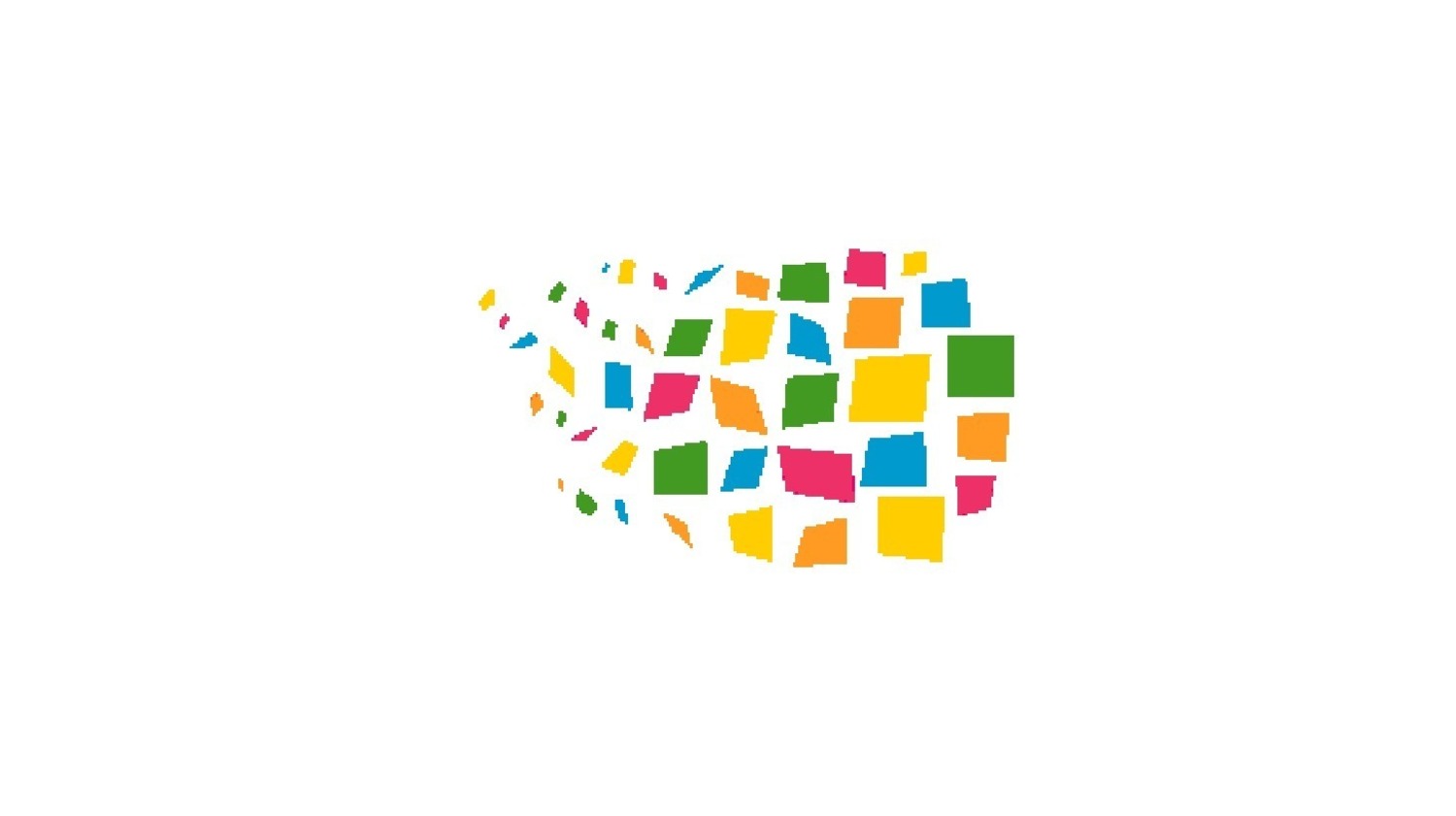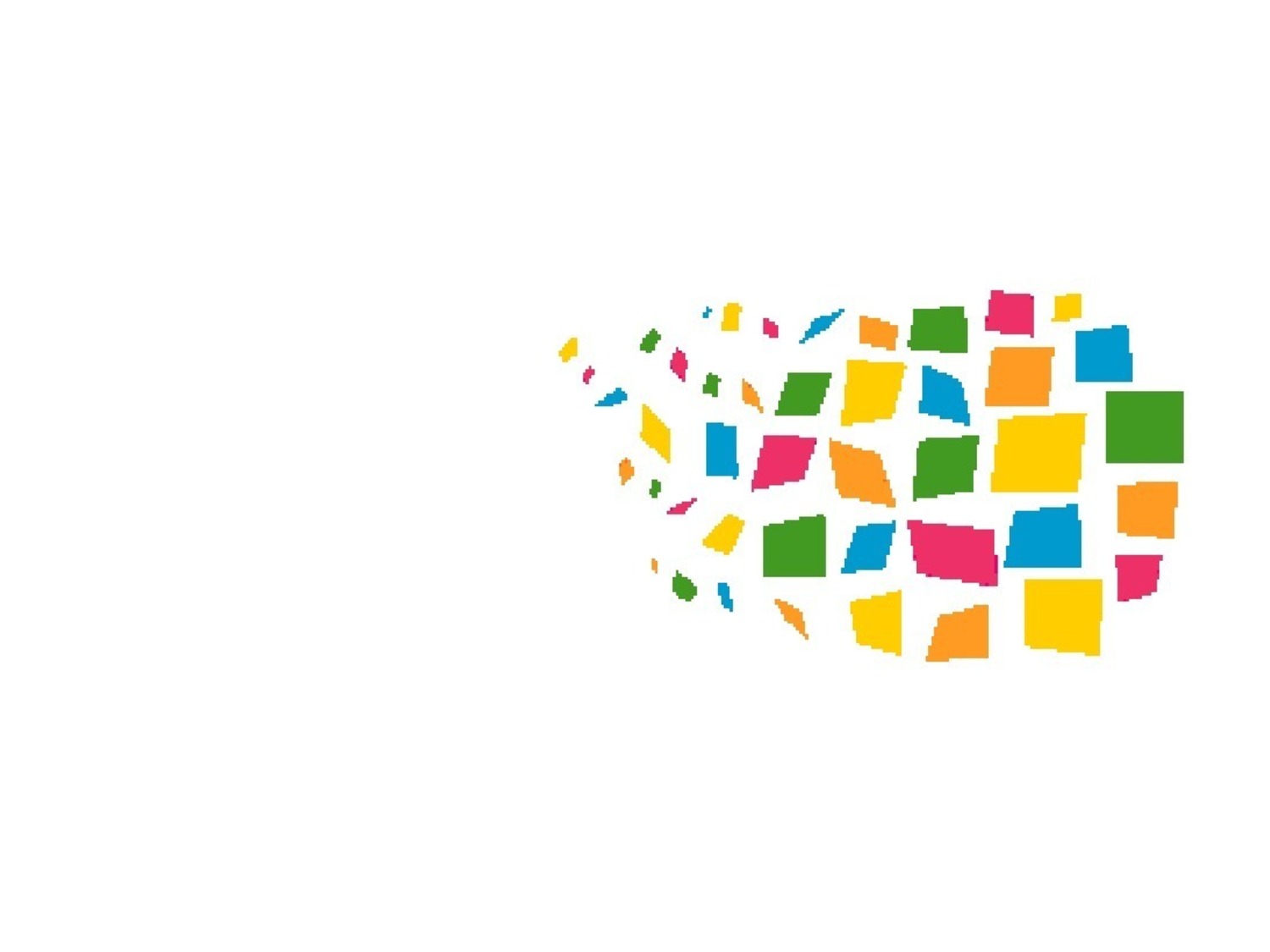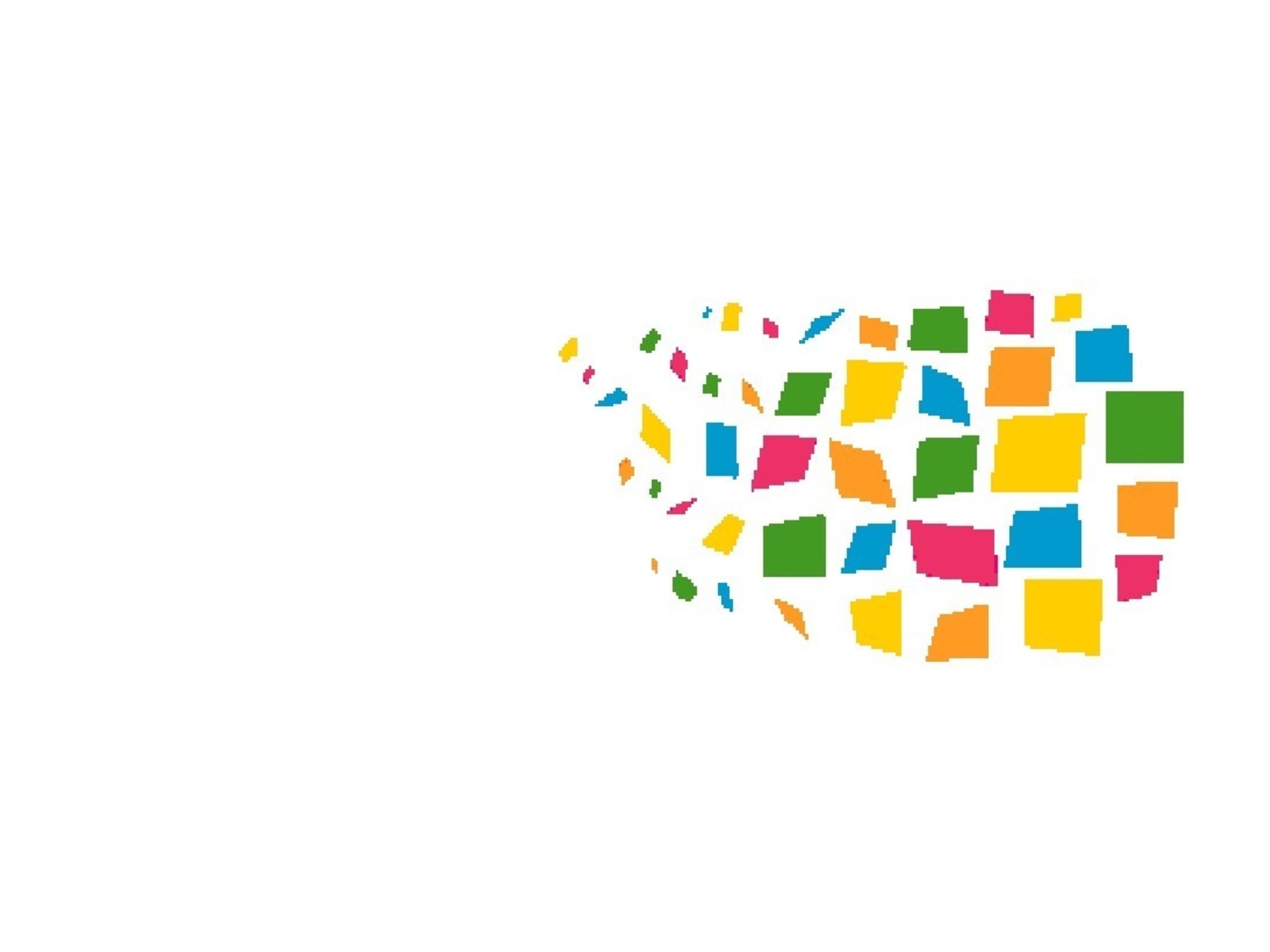На круги своя
Рассказ
Мой друг Иван звонит мне именно тогда, когда мне делать нечего – чувствует, наверное.
– Здорово, старый распутник, – приветствует он меня. – Как живется?
Мне двадцать восемь лет, и я не распутник, хотя и не женат. Это Иван так шутит.
– Вашими молитвами, – отвечаю.
– Вот и хорошо, – делает он неявный комплимент своим молитвам. – Айда пиво пить.
Пиво пить – это мысль хорошая, и я соглашаюсь. Мы договариваемся на четыре, и, положив трубку, я иду в ванную, довольно долго плещусь там, затем беру деньги, пакет и выхожу из дому.
Август. Я люблю этот месяц, не задавая себе вопроса: почему? Люблю без слов. Ушел тяжелый, приземистый жар континентального лета, стало легче. Ранним утром уже ощутимая прохладца, а днем как-то особенно хорошо и ясно, словно мир стал немного добрее, чем был. Я стараюсь избегать оживленных улиц и площадей, шагая дворами, тропинками, знакомыми мне с незапамятных дней. Я прожил в своем городе почти всю свою недолгую жизнь, по-настоящему отлучившись лишь дважды: в армию и, тоже на два года, – давно, давным-давно, – в далекую, теперь почти забытую всеми страну Монголию, где работали мои родители. Я тоже почти забыл ее, так много лет прошло. Мне помнятся лишь бескрайние долины, окруженные сопками по всем горизонтам, пустынные дороги, безмолвие, кучи камней на перевалах, безоблачное голубое небо днем, а по ночам – звезды, удивительно крупные, мерцающие звезды – таких я более не видел нигде.
Я беру в ларьке восемь бутылок пива и, обхватив пакет руками, топаю по широким, не чета нынешним, лестничным пролетам подъезда, ругая высокие потолки добротного сталинского дома, где пятый этаж будет, пожалуй, повыше теперешнего шестого... Иван, как выясняется, просек меня сверху и теперь встречает в дверях, в шортах и в майке. Мы всовываем шесть бутылок в холодильник, а с двумя располагаемся на балконе, в уютном тенечке – солнце уже перекатило через крышу дома. Под нами негромко рокочет улица.
Я обнаруживаю, что мы забыли открывашку, но Иван лишь машет рукой и забирает у меня бутылку. Я вспоминаю, что он умеет открывать их ртом: выкатит вперед челюсть, приладит пробку к зубам – дерг! – и пробка летит прочь, а Ванюша, глядишь, уже обхватил горлышко губами, закинул голову – и только кадык ходит вверх-вниз, как шатун паровой машины. Бутылка стремительно опорожняется, заполняясь нежной, вздрагивающей крупноячеистой пеной.
Терпкая, с горчинкой жидкость ласкает горло. Чуток бы попрохладней. Тепловатое.
Отпив по половинке, мы закуриваем. Треплемся о женщинах. Вспоминаем. Воспоминания приятны. Я стаскиваю футболку, прислоняясь обнаженной спиной к согретой за день стене. Хорошо! Небо чистое-чистое, ни облачка от горизонта до зенита. Здесь, на высоте пятого этажа, веет тихий, приветливый ветерок, какого нету у земли.
Как следует отхаркавшись, Иван мощно плюет через балконные перила. Плевок летит над гипсовой балюстрадой как пуля.
– А если в башку там кому-нибудь, – лениво воспитываю я друга..
– Плевать, – равнодушно говорит Иван и плюет еще раз.
Мы допиваем пиво. В голове моей оно уже слегка, вкрадчиво пошумливает. Душа мягчает. Я любуюсь чистым небом, вполуха слушая пустяковый рассказ о семейных неладах одного из наших одноклассников.
С Ванькой я знаком без семнадцати дней двадцать один год. Мне самому не верится! Двадцать один год, подумать только!.. Я уходил и возвращался; кого-то уже нет на свете, другие забыты. Кого-то и хотелось бы увидеть, но где ж они – поди найди...
– Дурак, – заключаю я, когда Иван умолкает. – Не женись рано – ежу понятно.
– Это точно, – подтверждает Иван, встает и отряхивает шорты. – Надо ж головой думать, а не задницей...
Он удаляется в комнаты, а я все никак налюбоваться не могу тихой прелестью уходящего лета. Мне хорошо и грустно: хорошо оттого, что мир сегодня такой славный, спокойный, а грустно – оттого, что это ведь только сегодня. Все проходит! Все проходит, все забывается, от всего устаешь – французская, что ли, поговорка... Мне нравятся эти слова, и я раздельно, со вкусом, повторяю их, задравши голову и глядя вверх. Небо, угловой обрез крыши, жестяное колено водосточной трубы. Невидимые голуби курлычут, плещут крыльями, мелко топчутся по железной кровле. Все проходит, все забывается, от всего устаешь...
Является Иван. Левая рука цепко держит горлышки двух бутылок, а в правой у него стаканы, тоже два. Поставив это имущество на кафельный пол, из шортовых недр он извлекает открывашку, сковыривает пробки и присаживается рядом. Мы наполняем стаканы.
Пена держится долго. Мы болтаем о чепухе. Потом аккуратно доливаем пиво. Цвет у него отличный: янтарный, плотный.
Иван в два приема уделывает свой стакан, облизывает верхнюю губу и, щурясь, тоже довольно долго смотрит в небо.
– Да,– говорит он глубокомысленно. – Вот интересно: помрем мы с тобой, пройдет сто лет, и никто о нас не вспомнит, никто и знать не будет, что жили, мол, когда-то два таких-то... А небо все такое же... И еще поколения пройдут, и потом за ними...
Под легкой мухой Иван любит пофилософствовать. В серьезном подпитии он обычно отправляется искать приключения и, действительно, находит их–на свою же голову... Но сегодня до этого явно не дойдет. Напор не тот.
Я так же ударно расправляюсь со своей порцией и так же облизываюсь, да еще и утираюсь рукой. Вот теперь холодненькое! То, что надо.
– Не знаю, Ванек, – говорю я после небольшой паузы. – Я вообще-то верю в бессмертие души.
– А я – нет, – с удовольствием говорит он, наливая себе.
– Поздравляю, – говорю я.
Иван не то чтобы обижен – мы слишком долго дружим для этого, – но усмешка все же задевает его. Он чешет ногу об ногу.
– Ну и что хорошего в этом самом бессмертии?
– Не знаю, – кротко повторяюсь я. – Но без него картина мира получается незавершенная. С дырками. Как недостроенный дом, знаешь?.. Крыши нет, окна зияют, ветер свищет...
Иван сосредоточенно глотает пиво. Думает.
– Поясни, – требует он потом.
– Поясняю. Если принять, что мир есть скопище смертных временных индивидов, то получается, что смысла в нем, в мире то есть, нет. Индивиды рождаются, живут и умирают. Уходят в никуда, оставляя после себя пустоту, ту самую дырку, о которой я говорил... Ну и... вот так идет время, поколения меняются, а чем все это кончится, когда, к чему, зачем?.. Хаос, ни цели, ни смысла... Ну а если ты считаешь, что твоя душа бессмертна – это значит, что ты не песчинка в хаосе, ты и есть сам этот мир! Пусть через бесконечные перерождения жизни – на том, на этом свете ли – ты движешься к единству с мирозданием, и все-таки когда-то достигаешь его. То есть... То есть получается так, что на своем пути ты, сливаясь в единое целое с другими элементами мироздания, ты, наконец, становишься им всем, всем миром! От хаоса приходишь к единству и гармонии. Тогда в жизни есть смысл и цель, и картина мира приобретает стройность и понятность... Ну, становится понятной, четкой. Есть цель! – мировой полюс, который выстраивает векторы индивидуальных воль... М-м... воль?..
Я хмурюсь. Хмель вдохновляет, развязывая язык, но и засылает разогнавшуюся речь в непредвиденные тупики. Кого-чего?... Воль... Волей?.. Не знаю. Непонятно.
Иван обнаруживает, что его бутылка пуста, без толку трясет ее вниз горлышком над стаканом, затем поднимается, идет к холодильнику и через десяток секунд возвращается с очередной пивной парой.
– Третий подход, – острит он. – А почему ты так уверен, что в нем есть порядок и цель?.. В мире-то. Я вот что-то порядка в нем не вижу. И смысла тоже.
Я пожимаю плечами:
– А я и не уверен. Просто мне нравится думать так. Для души спокойнее.
– Спокойнее?.. А мне вот по-другому хочется думать. И это, кстати, всю твою картину нарушает. Один, как ты говоришь, вектор направлен не в мировой полюс, а от него. Не получается гармонии! Не хочу я миллион или сколько там лет корячиться, чтоб слиться с мирозданием. Хочу здесь, на Земле, пожить, сколько мне отмерено – лет пятьдесят, шестьдесят, больше мне не надо – и привет товарищам! А там гребитесь-перевернитесь! – только без меня.
– Чепуха, Ванек, – я тщетно пытаюсь прикурить: колесико зажигалки высекает искры, но пламя не вспыхивает – видимо, кончился газ. Иван передает мне спички. – Спасибо. Чепуха это. Если так, то жизнь твоя бессмысленна. Из ничего в никуда – такой маршрут. Зачем тогда вообще жить на свете? Незачем.
Иван тоже закуривает и говорит, невнятно сначала, ибо сигарета мешает ему:
– А я тебе сразу сказал, что в жизни смысла не ищу, как и во всем мире этом. Кто тебе сказал, что в нашей жизни должен какой-то там смысл быть?.. Из ничего в никуда, говоришь? Так я не возражаю. Пусть будет так. А зачем я живу – это я объясню. С удовольствием! Жить – хорошо! Мне нравится. Я и без смысла всякого проживу свой полтинник, от души!.. А ты говоришь – незачем. Есть зачем... Как это: «Будь ты... Э-э... Благословенно, что пришло процвесть и умереть», – неточно цитирует он.
– Нонсенс, Ванюша, – уличаю я его. – Раз ты говоришь, что тебе есть зачем жить – тем самым уже признаешь, что у твой жизни смысл есть. И что же? У жизни индивида смысл есть, а у всего мира нет – так, что ли?.. Нестыковочка! Тогда, чтоб до конца последовательным быть, ты либо должен признать, что жить тебе незачем – и тогда одно: с моста в реку; либо должен признать, что у мира смысл есть. А это значит, что никакого «никуда» у тебя не будет, друг мой! Вот какая категория. Получается, как в присказке: желающего судьба ведет, сопротивляющегося тащит. То есть: те, кто нацелил вектор к мировому полюсу – те приближаются к гармонии, идут по восходящей, а те, кто против – вроде тебя – те по нисходящей. Но смерти-то, выходит, нет, небытия!.. Ты будешь удаляться, удаляться, из упрямства своего – да забредешь конце концов в какую-то такую гнусь, такую срамоту, что тошно станет самому – развернешь оглобли, и обратно. Все то же самое, только время потеряно. Не ведут тебя, а тащат.
Иван отмахивается от меня.
– Ты мне этими своими... Как это – схоластикой?.. Ты мне ей мозги не грузи. Доказать-то все что угодно можно: что круг – это квадрат, и что черное – белое. Не в этом дело... Ну ладно, пусть так. Пусть даже так. Пусть эти векторы должны быть нацелены в одну точку. Должны быть! – Это ведь не значит, что они и в самом деле туда нацелены. Ты же сам допускаешь, что они могут направляться и от центра – как у меня, например... Так? Так! Свобода воли, иначе говоря. Каждый мочит, как он хочет... Или другой вариант: ложный полюс. А? Где гарантия, что ты правильно идешь? Может, ты только думаешь, что идешь – а на самом деле это либо мираж, либо ловушка: шел ты, шел, надрывался, думал – к полюсу, а дошел, последний шаг шагнул – и кувырок! – в яму. Успеешь только: мать-перемать! – а там ни дна ни покрышки. И вся история... Он шел на Одессу, а вышел к Херсону… – Иван смеется, довольный.
Я тоже усмехаюсь, раздавливаю в пепельнице окурок и допиваю пиво.
– Ну, во-первых, свобода воли – это не «каждый мочит, как он хочет». Это не свобода, а позор. Свобода в том и есть, чтоб выбрать верный путь – не к призраку и не к яме, а к настоящему полюсу – идти по восходящей. Вот она – свобода. Это слово, конечно, затрепали всякие поганые языки... Но надо помнить, что она есть. А как определить, говоришь, где критерий... Как стружки в магнитном поле нацеливаются на полюса магнита – помнишь физику, седьмой класс?.. Ну, а что ж спрашиваешь тогда. Прислушайся к себе! Интуиция: когда на сердце ясно, в душе покой и свет, чисто, ни облачка... Значит, верно. Шагай! Ищи, думай... На то тебе и голова дана, – я снова усмехаюсь.
– А ты, значит, уверен, что на верном пути?
– Не-а, – охотно отвечаю я, опрокидывая бутылку над стаканом. Слышно поспешное бульканье.
– И в сердце не светло? И ясности в душе нет? – оживляется Иван.
– Нету, – сокрушаюсь я и приникаю губами к гладкому стеклу. Пена, пузырясь; игриво щекочет ноздри.
– И не уверен, что к цели идешь?
– Нисколько, – я на секунду отрываюсь от стакана и снова присасываюсь к нему.
– Рисуешься, – говорит Иван удовлетворенно. – Пижон!
Пиво выпито. На дне вяло проседает пена.
– Пижон, – повторяет Иван, и, прищуря правый глаз и весь лицом перекосившись, левым смотрит зачем-то в пустой стакан, как в подзорную трубу. – Тоже мне, о смысле жизни поливаешь...
– Вали-ка, Ванюша, за пивом, – хлопаю я его по спине. – Пора на финишную прямую выходить.
К некоторому удивлению моему, он послушно встает и идет в кухню. Вернушись, правда, заявляет:
– Трепло ты. Теоретик... Чего все теории стоят, если они только игра ума?
– Цена копейка, – соглашаюсь я. – Но у меня и никаких претензий нет. Кому-то дано дойти до полюса, кому-то нет... Мне, наверно, нет. Так что ж? Ничего.
– Ну, это ты, по-моему, врешь, братец кролик, – уверенно говорит Иван. – Что тебе все равно. Не верю!
Я смеюсь.
– Ишь, Станиславский... А впрочем, может быть. Но довольно об этом! Надоело. Слушай... Я тебе вот что посоветую: ты об этом на досуге поразмысли. Глядишь, книженцию напишешь. «Занимательная философия», а?.. Бестселлер...
Иван тоже смеется, затем прикладывается к стакану. Я продолжаю:
– Ну да ладно. Я тут одну даму на днях обрел... Рассказывал тебе?.. Нет? Ну!.. Сейчас опишу. Телеса... Ты такого отродясь не видел...
– Ну, чего я видел, тебе такого и не снилось...
Мы говорим долго. Но все на свете когда-либо кончается... Я гляжу на часы и сожалеюще хлопаю ладонями по джинсовым ляжкам. Время прощаться.
Пиво обманчиво утоляет жажду. Горло сохнет, и я пью воду из-под крана в ванной, затем посещаю соседнее место: два литра – не шутки. Мою руки с мылом. Голове немного тяжеловато.
Мы ручкаемся напоследок – и вот я уже иду вниз по широким, заглаженным под мрамор бетонным ступеням. Их середины заметно стерты – тысячами?.. десятками, сотнями тысяч?.. – ног. Это ненадолго возвращает мое поддатое сознание к мыслям о ничтожестве земных стремлений. Людей давно нет, только вот – следы их, съеденный бетон... Я усмехаюсь, так с усмешкой и вываливаюсь на крыльцо.
Вечер хорош. Ветерок спустился вниз, ласковый, теплый, гладит кожу обнаженных рук – южный, согретый верстами горячих пыльных земель. Я не спеша иду домой.
Хорош августовский вечер – смотреть бы на него не насмотреться, да что-то не могу. Царапинка в душе. Я ведь соврал Ивану – насчет бессмертия-то. Хотел бы, да силенки не те. Одно дело – так, языком молоть, другое – когда сам с собой наедине... Кто я? Я вижу небо над своею головой и как весну меняет лето, лето – осень. До неба не достать, руками не коснуться, дни проходят, собираясь в месяцы – и вот уже, глядишь, опять пора встречать весну.
Мне не хватает мужества поверить. Не умничать, не покривляться перед другом, не повздыхать о сложности жизни и собственной слабости, изобразивши из себя печально-циничного мудреца, который все понимает, но ничего не может изменить, не утешаться тем, что все, мол, успеется, что впереди еще много лет – а поверить по правде.
По правде поверить – значит, работать так, как будто за день должен сделать то, что хотел сделать за жизнь. Это значит – увидав перед собой в глухом ночном переулке пять молчаливых мужских фигур, не сворачивать в подворотню, а шагать прямо. И еще – когда твоя страна ведет войну, идти в военкомат, будь ты хоть трижды не призывной. И главное – молчать, когда ты знаешь, что сказать тебе нечего. Тогда только найдешь в душе своей крохотную искорку, узнав в ней сжатую Вселенную – и станет ясно, как далек твой путь. А если нет – то лучше и не лезть. Пускай дырявая картина мира, пусть из ниоткуда в никуда – просто не надо думать об этом обо всем. Надо принимать правила игры, играть в нее и пытаться выиграть.
Выигрывать... Да нет, и тут беда. Я почему-то слишком хорошо представляю себе последний миг тех, кто выбрал это – по слабости ли, по силе, по недоброй хитрости: кто прятался всю жизнь, кто подминал под себя этот мир, кто устраивался и нем с удобствами, с комфортом, презирая неумех, – всем им казалось, что последний этот миг там далеко, что можно и не брать его в расчет... Ну а потом там можно будет как-то изловчиться. И он действительно был далеко; да приближался – им было незаметно это, но он приближался. И вот настал. И оказалось, что ни одолеть, ни обхитрить его нельзя.
Что открывалось им? Я этого не знаю. Но вижу, как в тоске бессильной они цеплялись за него, за этот миг, который пусть и последний, но все-таки еще по эту сторону – и как они молили! Вдруг вспомнив забытые молитвы, проклинали все свои ненужные победы, клялись! – все отдать в обмен на жизнь хоть истязуемого на дыбе – лишь бы не туда. Но все напрасно – и, соскользнув, они пропадали в немигающей безмолвной черноте.
Я жидковат для бессмертия. Но и туда я не хочу. Сердцу тесно. Я иду домой, навстречу ветру – я на юг, а он на север – и не могу решиться, как мне быть. Я повторяю про себя слова, которые узнал не так давно, а узнав, не забуду уже никогда. Вот они:
Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и
возвращается ветер на круги свои.
Вот и все.
«Истоки», №3 (193), февраль 1999. С. 10
Фото: Галарина