-6 °С
Облачно
Все новости
ХРОНОМЕТР
7 Января 2020, 20:02
Граф Перовский и зимний поход в Хиву. Часть двенадцатая.
– Дайте перо, я подпишу, – попросил генерал Перовский, когда Никифоров прочел ему этот приказ. – Но позвольте, ваше высокопревосходительство, я прикажу еще раз переписать бумагу набело… – Ах, не мучьте меня, ради бога! Дайте перо поскорее! Неужели вы хотите, чтобы я еще раз читал этот горький и неприятный для меня приказ?! – раздраженно проговорил главноначальствующий и, взяв перо из рук Никифорова, быстро подписал бумагу…
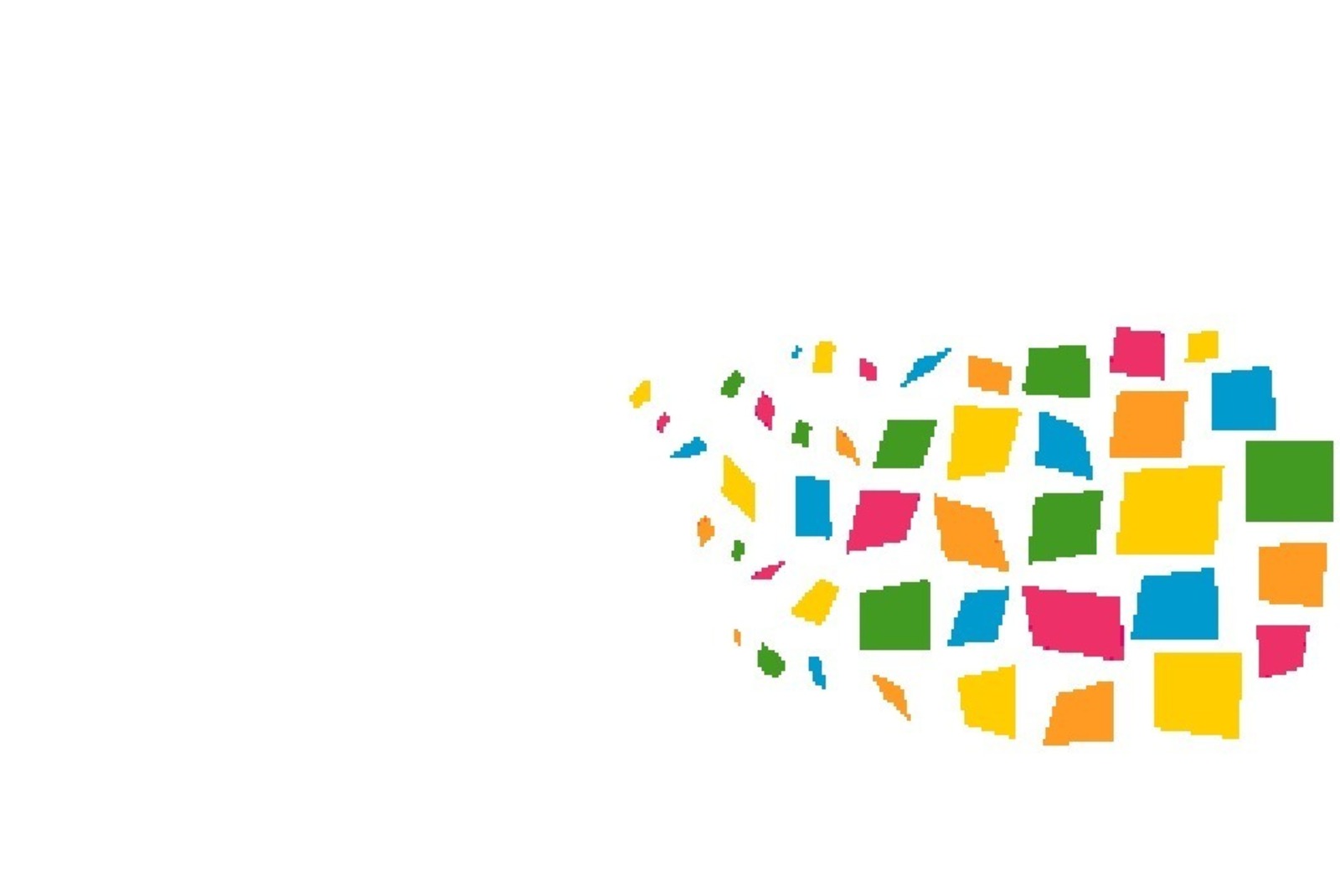
«Так сей приказ и был приложен к делу экспедиции не перебеленный», – говорится в записках Г. Зеленина.
Утром на другой день, 2 февраля, во всех отдельных частях колонны был прочитан отданный генерал-адъютантом Перовским приказ об обратном отступлении отряда на Эмбу… Приказ этот произвел большое оживление в колонне: словно она получила разрешение выступить из зачумленного города…
Солдаты живо принялись разметывать глиняную стену и довольно солидный бруствер, сделанный изо льда и снегу вокруг всего укрепления; затем тщательно вынимали весь лес из землянок – рамы, дверные косяки, подпорины и пр., словом, самый ничтожный кусочек дерева был бережно вынут и отложен для топлива во время предстоящего обратного похода… Затем рассчитали, что можно взять с собою на 2 тысячи уцелевших еще верблюдов и что следует уничтожить. Более 1,500 четв. ржаной муки и сухарей, то есть 6-недельное продовольствие всего отряда, было рассыпано по снегу и развеяно по ветру; всё излишнее железо побросали в Чушка-Кульское озеро. Бывший в плитках бульон, более 250 пудов, был частию роздан людям на руки, а остальное решили взять с собою, наложив на верблюдов; но киргизы при навьючке и во время пути бросали потихоньку бульон в снег, так как они считали плитки эти ни к чему не годными кирпичами, напрасно лишь отягчающими их верблюдов, и когда впоследствии хватись этого бульона, не нашли в обозе и стали требовать его от киргизов-верблюдовожатых, то наивные сыны степей спокойно объявили, что они по прибытии в Оренбург взамен этих маленьких кирпичей обязуются доставить русским войскам большие, еще более тяжелые, «настоящие» глиняные кирпичи…
Вечером 3 февраля, накануне выступления, жгли все сигнальные ракеты и фальшфейеры; огонь и треск отогнали далеко от укрепления волков, сбиравшихся целыми стаями каждый вечер вблизи Чушка-Куля. Киргизы видели такой фейерверк в первый раз, и он им очень понравился. Перед самым рассветом колонна выступила в обратный поход, разделившись, для удобства движения в пути, на четыре отделения и устроив мины в оставляемых землянках; когда вся колонна отошла от Чушка-Куля с версту, зажженные фитили в минах догорели, и начались взрывы… Киргизы в суеверном ужасе попадали на землю и долго тряслись, как в лихорадке…
В день выступления было 28° стужи (–35°C), накануне 30° (38°C), в два последующие дня, то есть 5 и 6 февраля, было 27° (34°C) при сильном северном ветре.
Обратный поход из Чушка-Кульского укрепления был рядом непрерывных страданий и тяжких бедствий для отступающей колонны, таявшей с каждым днем как воск на огне… Несмотря на наступивший уже февраль, морозы продолжали держаться всё время от 26 до 29° по Реомюру (33–36°C), при сильных ветрах и частых буранах. На ночлегах колонна останавливалась иногда без всякого порядка; как только следовал сигнал «стой», то солдаты раскидывали свои джуламейки там, где кого застал этот сигнал… Единственными людьми, не боявшимися морозов, были уральцы, выносливость коих была изумительна. Вот один случай, происшедший в колонне во время обратного похода на Эмбу. Денщик генерала Циолковского Евтихий Сувчинский повел однажды поить лошадей своего барина на озеро, попавшееся на пути ночлега: прорубая лед железным ломом, он нечаянно уронил его в воду; зная, что за эту оплошность придется поплатиться спиной, Сувчинский обратился к уральским казакам с просьбою помочь его горю, вытащить как-нибудь лом из воды…
– Почему не достать! – отвечал один из казаков. – Достать можно; но только купи, брат, полштоф водки…
За этим, конечно, дело не стало: денщик сбегал к маркитанту Зайчикову, купил водку и принес к проруби. Казак преспокойно разделся, его обвязали веревкой, он спустился в воду, нащупал лом, взял его в руки и вынырнул на поверхность воды… Морозу в это время было 31 градус (39°C). Казак накинул на себя тулуп и надел валенки, выпил с маленькой передышкой весь полштоф, схватил платье и побежал в свою джуламейку; там уже он оделся как следует. Потом казак этот говорил пехотным офицерам, видевшим всю эту историю, что они, казаки, во время багренья рыбы на Урале часто упускают в воду свои пешни и достают их таким именно простым способом во время самых сильных морозов.
На упомянутое озеро отряд напал чисто случайно, уклонившись во время бывшего накануне бурана с старого пути в сторону. Озеро это было для колонны истинным оазисом. Во-первых, не надо было оттаивать снег для воды, для питья лошадям и верблюдам; а во-вторых, по краям озера оказалась такая масса камыша, что все повеселели, развели огни, сварили себе горячую пищу и совершенно отогрелись. Уходя с ночлега, все очень жалели, что, за слабостью немногих оставшихся в живых верблюдов, нельзя было захватить этого топлива с собою в запас… И действительно, до Эмбенского укрепления в колонне никто почти не разводил огня ни для варки пищи, ни для того даже, чтобы немного отогреть закоченевшие члены и согреть хотя один чайник воды… Исключения были очень редки: если кому-нибудь из штабных или имеющих более средств офицеров удавалось с помощью добычливых уральцев получить несколько фунтов топлива в виде, например, старой веревки, куска дерева или обломка доски, за все это платилось если не на вес золота, то почти на вес серебра.
Только в одной джуламейке молодых топографов многие замечали, что несколько вечеров подряд горит там соблазнительный огонек… Все удивлялись, откуда это у топографов завелись большие деньги на покупку топлива, и охотно пользовались радушным приглашением молодых людей выпить у них стакан чаю… Тайна эта осталась в то время нераскрытою, и лишь спустя 51 год один седой как лунь 75-летний старик, отставной подполковник Г. Зеленин, добродушно улыбаясь, передавал мне, что они жгли в то время футляры и лубочные короба от имевшихся у них различных инструментов, астролябий, мензул, цепей и пр., а самые инструменты преспокойно укладывали в холщовые мешки, которые были надеты сверх этих футляров и коробов, избавляя таким образом себя от замерзания, а верблюдов от излишней ноши.
От замерзания или по крайней мере от болезни, происходящей вследствие продолжительного озябания тела, не спасали офицеров ни водка, ни спирт, ни ром, ни коньяк; единственным спасением был горячий чай. Пища у офицеров была немногим лучше, чем у солдат: запасы маркитанта Зайчикова были давно уже на исходе и продавались по баснословно дорогим ценам; никаких своих продовольственных запасов у офицеров уже не было, и приходилось поэтому довольствоваться теми же сухарями, размоченными в снеговой воде… Оттого-то все и старались добыть хоть немножко топлива, чтобы иметь возможность вскипятить чайник с водой и напиться чаю. «Это неоцененный напиток зимою, – говорится в одном частном письме о походе на Хиву, – по выпитии двух стаканов тотчас разливается необыкновенная теплота по всему телу, человек делается свежее и бодрее, а усталость совершенно пропадает»… По словам боевых, заслуженных офицеров, проведших все свои 35 лет службы в степи, чай даже летом, в самый страшный жар, в 2 и 3 часа дня, производит необыкновенно целебное действие: сначала появляется сильный пот, а потом, когда тело обсохнет немного, становится чрезвычайно легко, утомление проходит и человек делается крепким и свежим.
9-го февраля колонну застигнул в пути необыкновенно жестокий степной буран… В этот день, когда отряд выступал с ночлега, было прекрасное, тихое утро с небольшим, всего 4° (5°C), морозом; полагали, что днем, когда взойдет и начнет греть солнце, мороз совсем исчезнет или дойдет до нуля; а потому кто из офицеров имел тулупы, снял их и велел убрать на верблюдов, валенки с ног тоже все сняли, так как в них было очень тяжело идти по снегу. Но не прошло и двух часов, как начался ветер, перешедший вскоре в такой порывистый, что буквально сваливал пеших людей в снег, а лошадям и верблюдам совсем мешал идти. Мороз стал крепчать и дошел до 27° (34°C); замела такая вьюга, что в десяти шагах ничего не было видно, и в степи среди белого дня стало вдруг так темно, как в сумерки; словом, начался страшный буран, случающийся только в здешних необъятных степях, так прекрасно и верно описанный в «Капитанской дочке» Пушкина…
Генерал-адъютант Перовский приказал остановить колонну, и все, конечно, стали на тех самых местах, где их захватила метель, так как идти в темноте было некуда. Верблюдов с своими вьюками нашли в этом адском степном хаосе очень немногие; джуламейки довелось раскинуть с большими, самыми мучительными усилиями; об огне нечего, конечно, было и думать… Всю ночь свирепствовала эта разыгравшаяся снеговая стихия; многие готовились к смерти. Вдруг, на счастие отряда, к утру буран стал стихать… Но когда совсем рассвело и надо было подняться с ночлега, то, прежде чем выступить в поход, довелось совершить печальный обряд нескольких похорон разом… И лишь маленькие снеговые бугорки, образовавшиеся на месте ночлега, могли поведать буйному ветру в этой безлюдной степи о количестве жертв и о тех страданиях, которые выпали в эту приснопамятную ночь на долю геройской горсти русских воинов, безмолвно и безропотно полагавших живот свой в борьбе со стихийными силами…
Между 14 и 17 февраля все четыре отделения колонны стали подходить к Эмбенскому укреплению, пройдя, следовательно, 170 верст от Чушка-Куля в 12–14 дней. Для них, по распоряжению Перовского, были уже заготовлены особые лазаретные места в нескольких верстах за Эмбой, по р. Сага-Темиру: для здоровых людей поставлены новые киргизские кибитки, а для больных просторные камышовые балаганы; лишние котлы переделаны на печи; несколько десятков уцелевших верблюдов были отогнаны в камыши, росшие по берегам Сага-Темира, для самопрокормления. Из двух тысяч этих несчастных животных, взятых колонною из Чушка-Куля, пало за время 12–14 дней 1780 голов, то есть почти 90%…
Тотчас же по прибыли в Эмбу колонны генерал-адъютант Перовский отправил второе официальное донесение в Петербург о неуспешном походе предпринятой экспедиции в Хиву.
На Эмбу генерал-адъютант Перовский прибыл несколькими днями ранее колонны, уехав вперед после бурана 10 февраля. Он приехал едва живой: открывшаяся еще в Чушка-Куле рана в груди мучила его страшно; ему нужен был безусловный покой, а он, как известно, ехал за отрядом хотя и в возке, но в те же двадцати- и тридцатиградусные морозы. Плохою и изрытою дорогою его страшно било и качало; он даже не имел во время последних дней на пути к Эмбе ни теплой пищи, ни горячего чая.
По прибытии на Эмбу генерал узнал две печальные вести. Первая состояла в том, что десять парусных судов, отправленных в октябре 1839 года из Астрахани на Новоалександровск и далее с различными запасами и продовольствием для отряда, не могли, за противными ветрами, дойти до этого форта и вернулись обратно в Астрахань. Следовательно, на помощь с этой стороны рассчитывать было нечего. Вторая печальная весть, ожидавшая главноначальствующего в Эмбе, заключалась в том, что несколько сот свежих верблюдов, высланных по его требованию из Оренбурга сюда, на Эмбу, были отхвачены в степи кайсаками; сопровождавший же этих верблюдов корнет Аитов был взят и передан (то есть продан) теми же кайсаками в Хиву, в неволю.
Но всё это – и рана, и болезнь, и эти две горькие вести, – к счастию, не одолело атлетической натуры генерала Перовского и его железного здоровья, и по приходе в Эмбу, десять дней спустя, он был настолько уже здоров, что сел на коня и отправился в Сага-Темирский лагерь посмотреть на остатки своих героев-солдат, из которых, по его словам (сказанным впоследствии военному министру), «каждый заслужил по золотому Георгию».
Иван ЗАХАРЬИН
Часть одиннадцатая
Часть десятая
Выбор редакции
КОЛУМНИСТЫ
1 Июня 2025, 11:00
Современный сэсен Башкортостана или О вопросах духовной, литературной и музыкальной иерархии в системе тенгрианства
КОЛУМНИСТЫ
21 Февраля 2025, 14:00
От первого лица
КОЛУМНИСТЫ
28 Января 2025, 10:00
Надо ли троллить писателя?
КОЛУМНИСТЫ
7 Января 2025, 11:08
150 НОМЕРОВ…
Новости партнеров
