-3 °С
Облачно
Все новости
ПОЭЗИЯ
23 Сентября 2020, 16:02
Из густой, беззвёздной тьмы
Владислав ЛЕВИТИНПредставляется, что правильнее дать Владислава Левитина одновременно и как оригинального автора, и как переводчика с английского. Кажется, его творческий портрет от этого только выиграет.
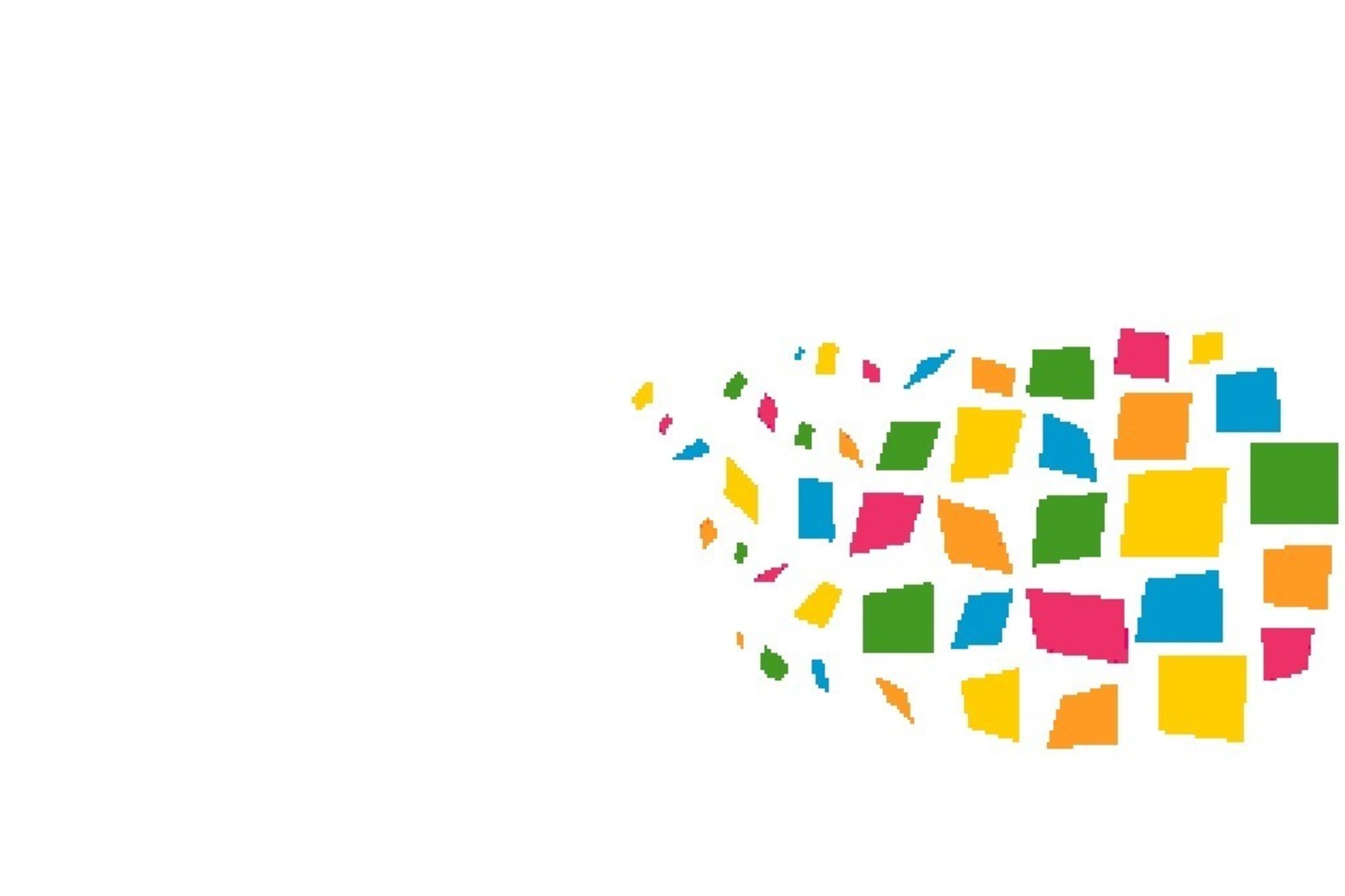
. «Я берег покидал туманный Альбиона», – почему-то вспомнилась мне строка русского классического поэта девятнадцатого века. И точно, что-то обаятельно-туманное от монотонных образов-понятий и неких универсальных, как будто узнаваемых ритмов, лаконичного, неброского, несколько бесцветного и однообразного содержания в стихах Владислава Левитина – то ли от английской поэтической культуры, то ли от выработанного переводчиком своего чувства меры, в котором Левитинским стихам не откажешь. Но назвать такую стилистику простой калькой с англоязычной поэзии язык мой не повернётся. Тем более что в русских Левитинских стихах «проборматывается» порой то ли Пушкин, то ли поздний Георгий Иванов с его сознательно бедным словарём.
Или вот поэт наш шутит – но английский ли это юмор? Может быть. Тем более что тема изоляции сегодня вполне себе международная, площадная и заезженная. Она проникла всюду вместе с вирусом. Она публична и продажна, как телевидение, радио или интернет. Как будто многим писателям вдруг не о чем стало писать, и они заголосили хором об одном, спасительном для них, несчастном событии, ковиде. Как нищий попрошайка, выставляющий на обозрение свои язвы. А вот, например, всем известный учёнейший муж и мудрец своего времени Боэций во время вынужденной своей изоляции (тюремного заключения) написал, напротив, лучшую, глубочайшую свою книгу – «Утешение философией». Правда и Левитин, отдадим ему должное, о ковиде пишет с юмором и философски. Но я отвлёкся.
Поэтому нам сегодня и любопытно сравнить оригинальные стихи Левитина с его переводами из английской классики прошлого века. Сегодня это – Оскар Уайльд. Сильный соперник, что и говорить. И точно, мы видим здесь, некоторые формальные сходства двух авторов. Прежде всего, это небольшой стихотворный размер, например три чудесные строфы у О. Уайльда и у В. Левитина вообще часто – стихи из трёх строф. Но у английского поэта парадоксалиста мы наблюдаем более выразительную образную предметность, цвет и ритм. Например, метафоры: «увядший лист луны», «кроншнепа фальцет», «лежит баркас рисунком чёрным на песке», «серп луны накинул жёлтый маркизет» (!) и т. д. За счёт этого выразительнее становится и всё стихотворения. Предметность в стихах Владислава Левитина более музыкальна, чем пластична, она растворяется в общих понятиях его образов. И не выделяется резко на общем смысловом фоне стихотворения. Даже, напротив, в стихотворении Левитина как будто всё специально сливается, подгоняется друг к другу. Так что иногда приходится вчитываться в строки, чтобы лучше ощутить внутреннюю форму стихотворения. Но может быть это особенность невзрачного времени и места написания оригинальных Левитинских стихотворений? Не то чтобы Уфа была последней во Вселенной дырой или в сравнении с Лондоном. Но всё равно в стихах Левитина нет ни «маркизета», ни даже «баркаса». Никакой экзотики. Кроме гнусного ковида и вынуждённой изоляции, над которыми наш автор, отдадим ему должное, слегка иронизирует. Хотя сама эта тема с её злостной, всепроникающей наглостью достойна разве что поэтического снисхождения со стороны свободного художника и может быть оправдана лишь великой оригинальностью своего решения. В качестве примера, с позволения читателя, приведу гениальный Пушкинский «Пир во время чумы». Вот где и музыка стиха, и самый катарсис высочайшего поэтического искусства – воистину покрывают всю мерзость случившейся с людьми житейской трагедии, всю роковую низость несчастья. У Пушкина не просто ангажированная случаем – но истинная, всё побеждающая поэзия. Поэт нам демонстрирует искусство полнейшей творческой самоотдачи таинственной теме общей человеческой вины, трагедии и очищения через искусство, которое он блистательно демонстрирует. Это уже не просто навязчиво кричащая о себе мода на очередное публичное несчастье. Но я опять отвлёкся.
Владислав Левитин дорог читателю уфимской поэзии своим особым, оригинальным и, что называется, метафизическим звучанием на великом и могучем русском языке. И хотя наш поэт сам переводчик, но он давно перерос юношескую тягу к европейской (или иной) экзотике и простому подражанию ей. И он, конечно, прав. Ведь даже если бы его поэзией были одни только «родные осины», то и тогда бы они, удачно положенные на стихи, дорогого бы стояли. Не правда ли, любезный читатель? А тут, у Владислава Левитина, ещё и глубина имеется, или, как сам он выразился, «густая беззвёздная тьма»… Не она ли и есть та самая prima materia, которую искали всегда философы и алхимики. И, конечно, тот небольшой (всего только один единственный от всех читающих), зато верный, неизменно существующий от века процент читателей поэзии со мной, я думаю, согласится.
Алексей КРИВОШЕЕВ
* * *
Смолкли города шумы,
Только тихий шорох ночи
Из густой, беззвёздной тьмы
Что-то шёпотом пророчит.
То ли дождик, то ль петлю,
Что затянется потуже,
То ли даму к королю,
То ль кого-то, кто не нужен.
Иль пророчит ночь не то
В ухо шёпотом приватно?
Чудеса все в решето
Уложил я аккуратно.
* * *
Смешались благостные вести,
Призывы к мести, тучи дыма –
Всегда враги и снова вместе
С времён Очакова и Крыма;
А время расщепилось где-то
В интерпретациях преданья
И в двух шагах от края света,
А может, центра мирозданья.
Пытаясь вырваться из быта,
Преодолев свой приступ лени,
Ищу, собака где зарыта
В хитросплетениях явлений.
* * *
Мелькнувшее лето аукнулось градом
И вздрогнуло громом далёким, без молний;
И небо зажмурилось хмуро в бесцветье,
Как будто ему всё равно абсолютно,
И следом за этим хандра накатилась,
И морось просыпалась. Что скажешь? – Осень.
Шанс
Бездумно путаем добро со злом,
И в головах не цели, а химеры,
И походя, крушим, не зная меры,
Судьбу испытывая на излом.
Мы выбираем жизнь от зла до зла,
Не сознавая выбора порочность.
Не потому ли жизнь теряет прочность,
Тот самый шанс, что нам судьба дала?
И мы не ищем и не ждём ответ,
И никому не задаём вопросы.
А мой вопрос – как мусор – ветер носит,
Которому нигде преграды нет.
Обещания
Стихи возникают ночами бессонными,
Мерцая, летят, растворяясь во тьме,
И слов не дождавшись, лишь дальними звонами
Они остаются во мне.
И мучаясь утром потугами памяти,
Сминая исписанный лист за листом,
Я всё обещаю, как грешник на паперти,
И всё забываю потом.
Приходят слова то легко, то болезненно,
Мерцать начинают строка за строкой
И манят своею разверзшейся бездною,
А мне обещают покой.
Айдару Хусаинову
В тесноте затянутых тенёт,
В паутине мы живём реляций,
В ожиданье, кто же воспоёт
Радость от режима изоляций.
В душу влезла ушлая тоска,
Бросив горсть в глаза ассоциаций;
С призраком знакомым РевЧК
Мы живём в режиме изоляций.
В поиске стихов как антител
Мы живём меж стоек декораций.
Слышишь? – Это пролетел
Термидор в режиме изоляций.
Айдару Хусаинову
Мне не пишется что-то, ну разве сейчас
Срифмовать письмецо и отправить e-mail для поэта,
Что сидит весь в грустях – без подковы пегас,
И, должно быть, в кармане последняя стонет монета.
Что-то грустное это твоё «Ага»,
А должно бы звучать торжествующим лозунгом громко:
Мол, попался, голубчик!
Твоя же нога
вся другого размера,
в поэзии это нескромно.
Не печалься, мой друг, позабудь, разотри.
А у тех, кто нас душит, мозги и без вируса стухли.
Мы свободны всегда – лишь скажи: раз-два-три –
И нас примут опять наши старые добрые кухни.
Ничего не знаем мы об этом
Айдару Хусаинову и
Иосифу Гальперину
Если б наш любимый всеми Ося
Метр стиха бы мерил в попугаях,
Он писать стихи бы точно бросил,
И тогда бы жил он в Гималаях.
Созерцал бы он другие горы,
Уходил в себя, мечтал о даме,
Сам с собою вёл бы разговоры
И совсем забыл о Мандельштаме.
Если б наш Айдар, любимый так же,
Метр стиха бы мерил в попугаях,
Он тогда б сказал, что всё не важно,
Ведь ещё он не был в Гималаях.
Я бы тоже с ними на край света,
Я ведь тоже не был в Гималаях,
Мы бы долго спорили о цвете
Перьев, ног и клюва попугая.
Мы бы бочку выставили с брагой,
Вспомнили б тогда о Мандельштаме,
Предлагали б искренне и нагло
Кружку браги проходящим ламам.
И возможно, может быть, должно быть,
Есть и там российские поэты –
О берёзках пишут и зазнобах.
Ничего не знаем мы об этом.
* * *
То, что было когда-то, всё было недавно;
И сжимается время в мгновение ока.
Оглянусь я назад – и бывает забавно:
Не заметил вчера, как исчезла эпоха.
Что гадать, когда дни все моленья отвергли!
И казалось, рукой дотянусь до потока,
Что смывает века и народы, и скверну;
И пока я тянулся, исчезла эпоха.
* * *
Продолжение следует – это только главы
Из бесконечной книги Бытия,
Что пишет каждый – правы ли, не правы –
В ней всё и все: и он, и ты, и я.
Переводы Владислава ЛЕВИТИНА
Оскар Уайльд
Oscar Wilde
IMPRESSIONS (1881)
LES SILHOUETTES
На море рябь от серых волн,
И мрачный ветер врёт мотив;
Увядший лист луны схватив,
Несёт над бурной бухтой он.
Рисунком чёрным на песке
Лежит баркас, в него рыбак,
Смеясь, забрался кое-как,
И что-то светится в руке.
И кроншнепа звучит фальцет;
Над склоном с тёмною травой
Жнецов, шагающих тропой,
На фоне неба силуэт.
The sea is flecked with bars of grey,
The dull dead wind is out of tune,
And like a withered leaf the moon
Is blown across the stormy bay.
Etched clear upon the pallid sand
Lies the black boat: a sailor boy
Clambers aboard in careless joy
With laughing face and gleaming hand.
And overhead the curlews cry,
Where through the dusky upland grass
The young brown-throated reapers pass,
Like silhouettes against the sky.
LA FUITE DE LA LUNE
Царит покой для чувств моих,
И, в полумрак погружена,
Лежит волшебная страна –
Здесь нет теней, и воздух тих.
Лишь эхо вскрикнет сквозь туман
На безутешной птицы трель –
Зовёт подругу коростель –
В ответ с соседнего холма.
И вдруг луны на небе нет –
Блестящий серп её исчез;
Он скрылся в хмурости небес,
Накинув жёлтый маркизет.
To outer senses there is peace,
A dreamy peace on either hand
Deep silence in the shadowy land,
Deep silence where the shadows.
Save for a cry that echoes shrill
From some lone bird disconsolate;
A corncrake calling to its mate;
The answer from the misty hill.
And suddenly the moon withdraws
Her sickle from the lightening skies,
And to her sombre cavern flies,
Wrapped in a veil of yellow gauze.
IMPRESSIONS (1882)
LE JARDIN
Вкруг стебля – лилий лепестки,
И цвет его златой пожух,
Курлычет там, где буков дух,
Последний вяхирь от тоски.
Поник подсолнух гривой льва,
Уже увядший и пустой;
И с ветром сыпет желтизной
По саду мёртвая листва.
Лежит – как будто снег прошёл –
Молочный бирючины цвет;
И розы по траве вослед –
Кровавый лоскутами шёлк.
The lily’s withered chalice falls
Around its rod of dusty gold,
And from the beech-trees on the wold
The last wood-pigeon coos and calls.
The gaudy leonine sunflower
Hangs black and barren on its stalk,
And down the windy garden walk
The dead leaves scatter,—hour by hour.
Pale privet-petals white as milk
Are blown into a snowy mass:
The roses lie upon the grass
Like little shreds of crimson silk.
LA MER
Тумана белого покров –
В холодном небе напоказ
Луны сверкает львиный глаз
Из гривы рыжих облаков.
Тепло укутан рулевой,
Как призрак он во мгле суров;
В машинном бьётся громко рёв,
И носится шатун стальной.
Разбилась буря – след живёт
на вспухшем куполе волны,
и нить из пенной желтизны,
сплетаясь в кружево, плывёт.
A white mist drifts across the shrouds,
A wild moon in this wintry sky
Gleams like an angry lion’s eye
Out of a mane of tawny clouds.
The muffled steersman at the wheel
Is but a shadow in the gloom;—
And in the throbbing engine-room
Leap the long rods of polished steel.
The shattered storm has left its trace
Upon this huge and heaving dome,
For the thin threads of yellow foam
Float on the waves like ravelled lace.
Подготовил к печати Алексей КРИВОШЕЕВ
Выбор редакции
КОЛУМНИСТЫ
1 Июня 2025, 11:00
Современный сэсен Башкортостана или О вопросах духовной, литературной и музыкальной иерархии в системе тенгрианства
КОЛУМНИСТЫ
21 Февраля 2025, 14:00
От первого лица
КОЛУМНИСТЫ
28 Января 2025, 10:00
Надо ли троллить писателя?
КОЛУМНИСТЫ
7 Января 2025, 11:08
150 НОМЕРОВ…
Новости партнеров
