-19 °С
Облачно
Все новости
ПОЭЗИЯ
27 Марта 2020, 21:13
В непрерывном потоке непросмотренных новостей
Рустам НУРИЕВ – профессиональный контрабасист в оркестре, сам себе композитор и активный исполнитель собственных, несколько странных, отчасти смешных и грустных песен. Но читателю поэзии он известен как слагатель длинных, хаосоподобных верлибров, которые при горячем желании можно принять и за поэтический авангард.
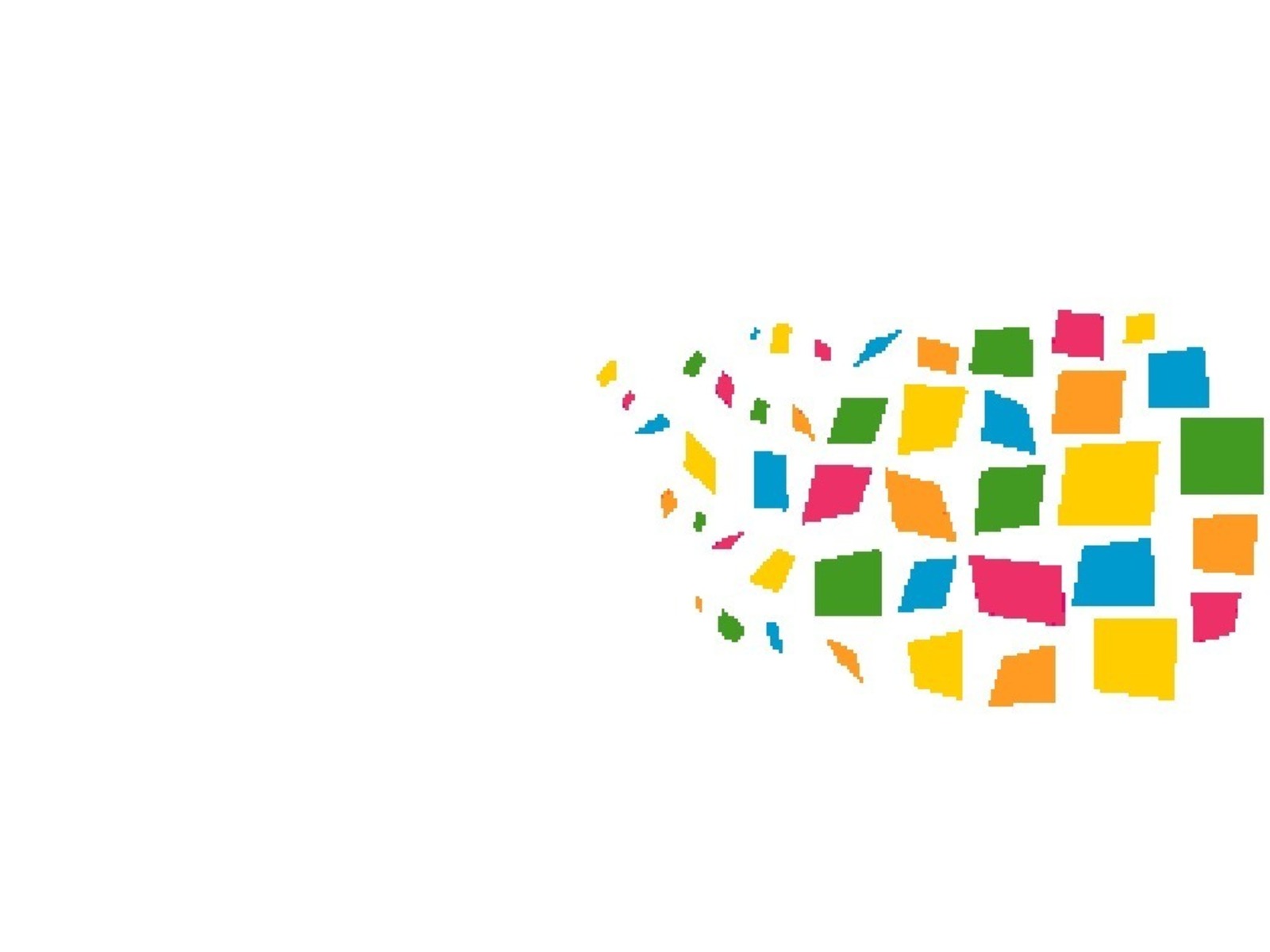
Всё, что не вполне искусство в техногенном прогрессистском веке, легко сойдёт за авангард (для определённого рода не слишком взыскательной по части того же искусства публики). Стихотворный персонаж Рустама Нуреева (не путать с ним самим) – этакая чистая душа с голубооким взором, затерянная посреди мира манекенов, автобусов и трамваев (в машинах душа ездит реже). И то, что постоянно творится с этим его персонажем, вызывает неизменное сочувствие – и у незадачливого читателя, и у строгого критика стихотворений Нуриева. Этот его единственный, из текста в текст переходящий горе-герой и симпатичный чудак – не кто иной, как перенесённый на чуждую для него почву городской цивилизации степной акын. И то, что Нуриев делает со своими словами – это современное акынство в чистом, то есть невозможном сегодня, виде.
Мало того, что так называемые стихи Нуриева напрочь лишены какой-либо насильственной или нарочитой стилизации под народную жизнь, но они чураются и подлинного искусства слова. Нуриеву не интересны хороводы на сцене и песни народных хоров. Но ему равно чужд и Шекспир, не говоря уже о Льве Толстом. Искусство поэзии для него значит куда меньше, чем кастрюля Тефаль. Пиво и пельмени предпочтительнее чудного мгновенья Пушкина. Или нет? Хотелось бы, чтобы я ошибался. Посыл Нуриева ещё более тотален, чем любой махровый консерватизм по отношению к современности.
Кажется, что Нуриев отрицает в молодой и современной, четырёхсотлетней русской поэзии всё, кроме самого себя возлюбленного. В этом вся его революционная, авангардная радикальность и залог его читательского успеха (не-успеха). Если только те неординарные чувства, которые вызывают у читателя его свободно изливающиеся, порой обаятельные, вечно сносящие безропотно любые Нуриевские издевательства над собой, стихи Рустама, мы вправе назвать таким заурядным для продвинутого авангардиста словом, как успех.
Но тотальное отрицание или пренебрежение всем разнообразным арсеналом лирического искусства (включая чудные, индивидуально-неповторимые стихотворные мелодии и элегантно-смысловые рифмы), никогда не устаревающим, парадоксальным образом порождает авторскую (да и читательскую) взыскательность, потребность и веру в подлинность искусства. На деле, ни авангардистский, ни любой другой нигилизм, не в силах отменить необходимость другой почвы, без которой нет плодоношения и произрастания величайших и прекрасных произведений искусства (которые всё же встречаются на свете). И для удачных Нуриевских стихов в том числе нужна Небесная почва вечно-живого Искусства.
Дело ведь не в научно-техническом прогрессе, когда речь заходит о глубине жизненного смысла, этого абсолютного блага для сердца любого творца. Причём сам поэт в это время, может быть, со всем своим удовольствием рассекает мировое пространство на велосипеде или акведуке, спускается в низину за карасями к озеру или взбирается на иную вершину, полюбоваться чем-нибудь, вроде Эдельвейса.
И ещё. Не столько лично о Рустаме Нуриеве, бесконечно симпатичном мне перформансисте-иногда-бузотёре, сколько об авангарде в целом. Итак. Истинный авангардист, скажем, Пикассо, всегда может предъявить в доказательство своего неподдельного мастерства изысканнйейший, сделанный в классической манере, рисунок. Возьмите хоть иллюстрации Пабло Пикассо к «Уллису» Джойса. Рисунок вас поразит своим совершенством и безупречностью. Невольно помня о таких его рисунках, вы ещё больше впечатлитесь «Герникой» и подобными ей полотнами великого мастера. И так было со всеми новаторами всегда. Да, бывают редкие исключения, когда общепризнанный художник неважно рисует. Случай с таможенником Руссо. Но это вовсе не значит, что претенциозное шарлатанство сойдёт за поэтическое творчество. Никакая политкорректность не заставит вас принять яичницу за дар божий. А если заставит, тем хуже для вас. Талант в любой области искусства даётся Богом и укрепляется личным адским трудом и многими даже лишениями, чтобы не сказать жертвами. Хотя древние это уже сказали. Искусство требует всего человека целиком, гласит пословица. Это вам не журналистика. Хотя даже в ней нужен как минимум профессионализм. И другого, лёгкого пути, для поэта нет. Да и не пошёл бы он другим путём.
Так добросовестный поэтический талант (а не удачливый имитатор только) способен продемонстрировать своё владение такими классическими формами стиха, как: сонет, элегия, баллада, сюжетно законченная поэма и т. д.
Иначе это варвар, который отрицает Искусство, утверждая своё право на это. Иначе это полуграмотный имитатор-стихотворец, не посвятивший себя искусству поэзии (слова) целиком, но ни на миг не сомневающийся при этом в своём священном праве делать под видом стихотворства всё, что ему вздумается для поддержания собственной выгоды и самопрославления – имя имитаторам-варварам – легион. Сегодня это и технари-образованцы, и физики-лирики, или наоборот, и кто угодно из нас, и мы все, вместе взятые.
Сильный овладевает Искусством только через великое сомнение в себе самом. Слабый имитирует искусство из любви к своей персоне (или к своей группе), утверждая себя, не сомневаясь в себе ни секунды. Как видите, слабого упрекнуть не в чем. За ним и право, и политкорректность, обеспечивающие законную неприкосновенность его физического лица. Но бессильные помочь в деле Искусства слова.
Наша слабость, к тому же, может быть бесконечно симпатичной, а сила всегда опасна, и в первую очередь для нас самих. Когда ещё она станет великим искусством, если станет им вообще. А слабость всегда с нами. Будь это слабость агрессивных адептов, имеющих лишь коллективную душу, будь слабость эта претензией очередного выскочки из народа. Нет разницы. Если нет всепоглощающей любви к искусству.
Но я отвлёкся от Рустама Нуриева, прекрасного музыканта.
Простые и вечные истины помогают только тому, кто не пренебрегает ими сам. Но чего они не делают точно, так это не заставляют кого-то творить или жить не так, как ему не хочется или не можется. Истины эти ненасильственны, прежде всего.
Добрый юмор и свободное, безыскусное струение Нуриевских строк делает их бесконечно привлекательными уже хотя бы потому, что они собственно есть ни что иное как сама тенденция его словотворчества или устремлённость личности Рустама Нуриева к бесконечности. И это способно сводить с ума читателя, как и самого автора. Перед нами мелькают, не задерживаясь, какие-то индустриальные пейзажи – то ли это Туймазы, то ли Америка, то ли КНР, то ли растянувшаяся в прошлое душа поэта… Мы постоянно куда-то движемся, суетясь, вместе, кажется, с самой сегодняшней жизнью. Она готова вот-вот оборваться, но только тянется и тянется в этом томительном, дарующем маленькую надежду, времени и вечно узнаваемом, круглом пространстве.
Вот-вот, кажется читателю, появится что-то значительное, глубокое за обрывками поверхностной бессмыслицы существования скачущего, как мячик, туда-сюда поэта. Да есть ли ещё что-то, кроме всего этого круговращения, возникает у читателя подозрительный вопрос. К чему всё это, да и сам поэт, догадывается ли? Или он знать не хочет, и никакого смысла и глубины вовсе не существует на свете? А есть только суета и круговерть, ну, и, разве что, ещё та небольшая надежда, за которую стихотворный персонаж Нуриева не перестаёт в этой бессмысленности хвататься, как утопающий за соломинку? Тут возникает даже подозрение, а не искусственна ли и эта бессмыслица, и разве не она основной приём автора бесконечных, как бы безыскусственных текстов, разрушивших все остальные поэтические приёмы, для того только чтобы заменить их все одним единственным приёмом, отменившим все другие? Да ведь так оно и есть, не так ли, читатель. Вся эта нарочитая, почти механическая безыскусность происходящего – разве это не такой же приём, вытолкнувший все другие, как кукушонок в чужом гнезде? Но не весь ли авангард таков? Не в этом ли его роль? Не приходит ли он, когда искусство перестаёт быть живым и новым, а делается мёртвым и скучным? Да ведь так и есть. Всё искусство искусственно, и в первую очередь авангард, если нет в них великой меры и индивидуального Вкуса. Нет искусности, одна только искусственность. А потому и добавить нам больше к сказанному нечего, и лишь остаётся предложить любезному читателю самому читать и разбираться, прилаживая эти стихи к собственному духовному росту, ибо больше и не к чему их прикладывать для опознания. Ведь у каждого он, этот духовный вырост, свой собственный, и другого безошибочного способа познания истины или улавливания тонкого сияния её красот – нет в природе.
Поэтому с Богом, читатель, пускайся в свой путь, если, конечно, есть у тебя и Бог и свой путь… А то, может быть, и не нужно тебе ни того, ни другого, и слова мои только вызовут лёгкую щекотку в твоём в носу и заставят тебя разве что чихнуть разок-другой, да и пойти свой стороной дальше. Потому что пойти-то всегда есть куда, были бы только ноги, а о смысле и задумываться не обязательно…
Заглавные буквы, строчные или знаки препинания – авторские.
Алексей КРИВОШЕЕВ
* * *
Я еду в троллейбусе номер 21
За окнами снег и метель
Не хочешь, не верь
Электромагнитное поле мотора зелёного
Необходимо для приведенья в движение транспорта этого самого вот,
в котором еду я, еду я, еду.
Купил бы я что-нибудь к чаю
Да только вот – остановка "Центральный рынок" минут через 10 только.
Уже середина зимы
И Солнце восходит над городом.
Оно – долгоиграющая реакция термоядерная
Я еду и думаю оптимистично и бесконечно о том, что всё хорошо на белом свете.
3-12-2019
* * *
Темперирован клавир хорошо 18-м веком и числом помноженным на самоё себя 12 раз, в волшебную двойку октавы
С Пифагором спорят клавир и Бах
Так что вот уже век 21-й унаследовал синтезаторы Муга и раги индийские с тритоновой заменой Эллингтона к тому же.
К мелодии одноголосной на 1000 лет, к китайцам бы уехать на сто от Уфы километров, но не еду, в яме сижу оркестровой среди клавирного королевства 12-типолутоновой системы и даже в кармане нет пачки сигарет, я не курю.
Ну, может быть курай или дудук и укулеле тоже когда-нибудь споют мне мелодию тяготеющую ладово секундой малой коэффициент опровергая тот самый, двойки компонент темперированный из 12-ти ещё один-единственный.
* * *
Я верю в электричество
В поэзию в Бельгии на фестивале верю ли.
Верю ли в Париж я тоже, тоже?
Никогда в жизни не буду больше пить сегодня.
И завтра безусловно.
И никуда не пойду
Дома сидеть будУ
В Праге я был, в Братиславе на берегу Дуная стоял.
А также "капс-лок" нажимал не более одного раза в месяц
На Айской живу, на Айгире на гитаре играю и даже пою.
"Осторожно, осторожно, возможен сход снега, возможен сход снега и льда".
а теперь диалог:
"Ты только это не это! Ладно?"
"Ладно. Это не это – сделано будет это"
* * *
Где-то между ветров на какой-нибудь улице, допустим, Оптимистической
Растут кипарисы рядами
И трамваи летят городами
За горизонты,
Где находятся аэродромы невидимые, садятся самолеты, мигающие ночною летней порой
Да и то – это не точно
Потому, что давно это было – глядение вдаль из окна моего детства
Когда "Знание-сила" – журнал, номер 6 тире 83
Логически выверенно помогает всё знать.
Плюс "наука и химия с жизнью" фантастическую объясняют мне повесть-симфонию
Где-то между радостью позвонить оператору сотовому
Чтобы что-нибудь переспросить о тарифах и планах на будущее
И тем, чтобы снова мобильный, и недешевый и недорогой купить
И после 250 грамм со своей совестью не дружить, а юлить.
Что скажет мне на все на это Мирозданье?
* * *
вскочить бы на автобус успеть добежать поймать бы победу маленькую добраться до тудова куда надо
да выучить страницу нот даже две
пока звенит колокольчик в облаках
но вчера мимо как-то всё было улетел змей воздушный из Уфы в Китай
А вокруг дороги другие и архитектура очередного десятилетия
да кто я тогда, собственно?
хорошо, если выпью я чашку зелёного чаю вот сейчас.
* * *
Пейзажи США пролетели за окном автобуса совсем недавно
Ну то есть даже не позавчера
Почти неделя может быть прошла
"И снега не было почти
И осень вдруг закончится сегодня" –
Опять повтор в стихотворенье этом
Заимствованный из другого – прошлогоднего весеннего
Пейзажи КНР в настроении не менее прозрачном – метель и воздух тихоокеанский
И вот, что я скажу – люблю, люблю свою Уфу.
* * *
Гитарную карьеру в трамвае выпрашивал я.
А где же ещё?
Транспорт-то поэтический
Неэтически это?
То есть комильфо ли просить с точки зрения этики
среди цыган, но без медведей в транспорте, где концерт?
Ведущий предоставил мне выступление, исступлённое, расслабленно-кисте-ударное наотмашь.
Я своего добился.
* * *
Как будто умел я писать стихи
Поехал я будто их почитать типа вслух даже типа в Москву
В фантастике поезда, в плацкартном вагоне
Потом догадался, наверное, будто не умею вообще.
И лёг спать.
* * *
Пианино на доски разобрано и на свалке оно погибло
Даже я в этом невероятно, но виноват
Но оно как "Принц Флойд" "Обратной Стороной Луны"
В постоянно запоминающих участках мозга грохотом Теории Струн и Чугуна Нажатой педалью не демпфера, или воет или поет или гудит, землетрясение обещая.
Мне более чем 7.
Нажимаю последовательно клавиши все от 85-й и до 1-й, и Тайна священной Музыки всегда со мной, и я есть я.
Нет, не просто так – за рекой поезда и за горой кони скачут, и бег слоновий джунгли сквозь –
А 7-милетний я вслушиваюсь, в пол комнаты той, где пианино "Смоленск" находится.
И это вслушивание навсегда.
Такая она, такая – принцесса НафсИгда!
* * *
Чаю налей себе самому завтра когда преодолеть что-нибудь надо
например в понедельник начни новую жизнь
Неторопливо и спокойно
зелёного чаю, желательно в чашку фарфоровую.
Слов нет, но я их поищу в непрерывном потоке непросмотренных новостей
Пусть воет вьюга в два голоса в трубе высотой в 20 этажей
Возводящая в куб десятки метров отражением эха в программе Неро
Отчего милая домашняя гитара преображается в леди башкирского рока
Ну это так сказать так и эдак то сплю, то не сплю в два притопа, три прихлопа к слову о творческой даче, на которой ещё читаются мои стихи.
Флейта вот только, вот только она и может вместе с вьюгой той трелями того это самое.
Продолжение следует...
Выбор редакции
КОЛУМНИСТЫ
1 Июня 2025, 11:00
Современный сэсен Башкортостана или О вопросах духовной, литературной и музыкальной иерархии в системе тенгрианства
КОЛУМНИСТЫ
21 Февраля 2025, 14:00
От первого лица
КОЛУМНИСТЫ
28 Января 2025, 10:00
Надо ли троллить писателя?
КОЛУМНИСТЫ
7 Января 2025, 11:08
150 НОМЕРОВ…
Новости партнеров
