-10 °С
Облачно
Все новости
ПОЭЗИЯ
20 Ноября 2019, 19:08
Над миром фирм и мафий
Евгений АНТИПОВ Евгений Антипов умудрился, на наш взгляд, сделать почти невозможное. Он сохранил человеческий дух – содержание, или понятие – самого слова-выражения «мы». Он сохранил положительное содержание осмеянного мелкотравчатым эгоизмом самой этой словоформы. Как будто у грамматической формы есть один только негатив без лицевой его стороны. Это не так. И слово «мы» снова обрело у поэта вполне себе личностно-человеческое начало. Возможно, на этом частном примере поэта и сбылось настоящее чаяние целой советской эпохи – мечта о подлинном равенстве и братстве всего множества людей «земшара».
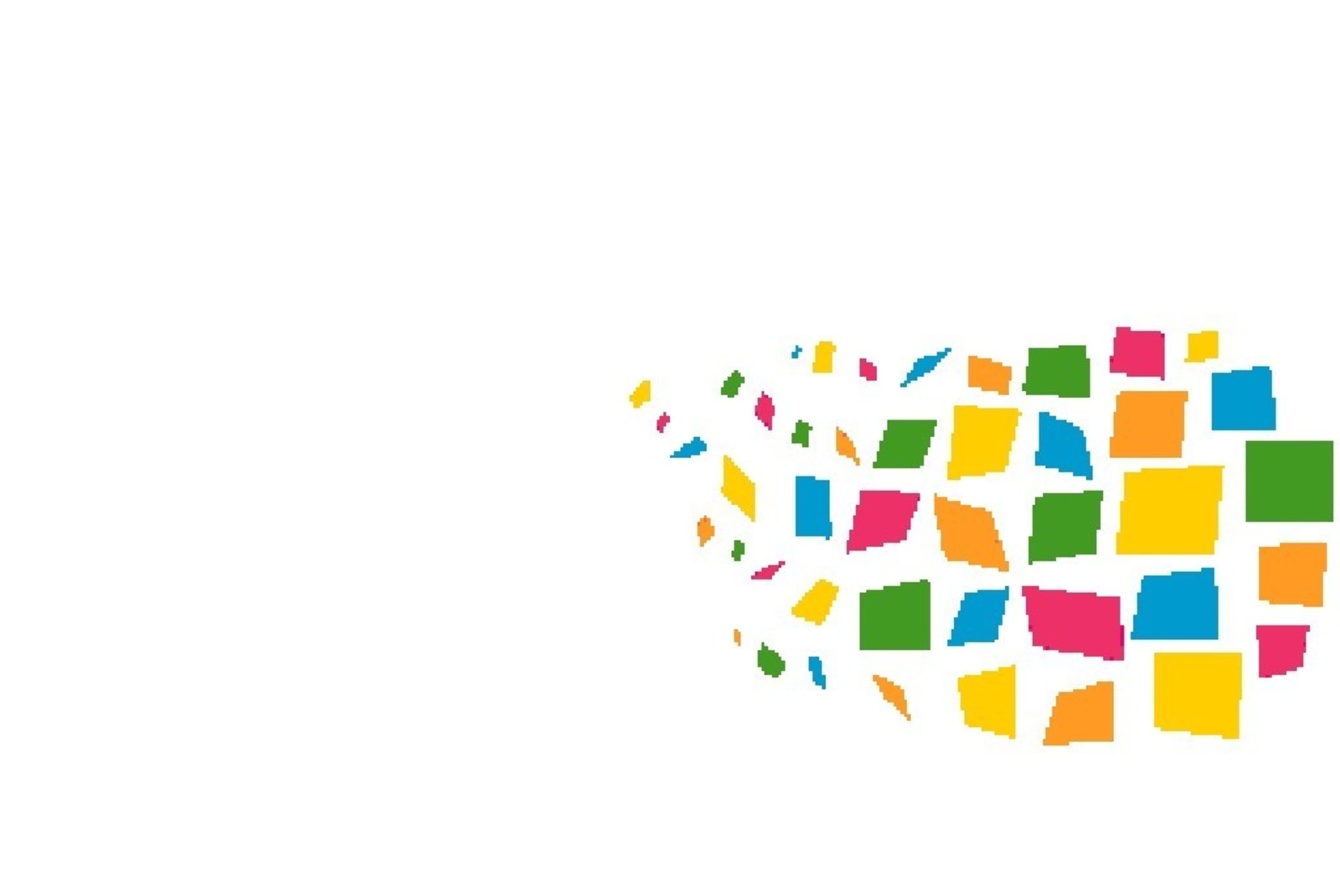
Всех населяющих его национальностей, проживающих у нас в России. Это братство – не узко-государственного или национально-языческого (эго-племенного, цехового, группового) происхождения. Братство – не есть и возрождение националистического духа, всегда эгоцентричного и недалёкого, спесиво-наглого, лишённого индивидуальной, сознающей души. Коллективизм без живой (доброй) веры в Другого – всегда низкопоклоннический и злобный. Кичливый, байский, неприлично-господского – дух дурной (запертый). Дух – нехристианский по сути (нечеловеческий), и не божественный – в смысле универсального единства, доступного только личности пробуждённого духом человека.
Через Соснору и Антипова советский формальный художественный метод возвратился к традиционной человеческой индивидуальности западнорусского образца, к универсальности человеческой личности, не исключающей её уникальности, непохожести на всех. К смысловой её уникальности. Личности, открытой для непрерывно текущего через глубины её душевной структуры исторического процесса, или мирового духа. И всё это есть в поэтическом, выразительнейшем слове и Сосноры, и его блестящего ученика Антипова.
Таким образом, наследуя всей формальной школе, начавшейся с революционно-агрессивного (насильственно насаждаемого, вроде картошки или кукурузы) атеизма, абортировавшего понятие Бога-духа или выпавшего из него куском кровавого мяса, далее – через своего великого учителя Виктора Соснору, индивидуализировавшего наследие советской коллективности – Евгений Антипов доводит принятое им от мэтра и учителя наследие – до ума. И – до самого его конца.
Пройдя через великий индивидуальный распад и разложение в индивидуалистическом поэтическом духе Сосноры, русский формализм был заново собран и продуман до деталей и мелочей в лице Антипова. Грубо говоря, Антипов довёл наследие Сосноры до ума.
То есть практически возвратил ему и «нормальную» государственность, и коллективное, но вполне человеческое – обретшее уже в лице Сосноры свою яркую индивидуальность – содержание, очистив его от сопутствующей эксперименту трухи распада, от всей отработанной руды и сугубо формалистского шлака.
Евгений Антипов закрыл проект – ровесник целой эпохи (СССР).
Читатель обратит внимание на редкостное многообразие и смысловое богатство внутренней тектоники этой удивительной поэзии, а также на мельчайшую точность авторской её выразительности.
Но моя проза бессильна, хотя бы отчасти, передать прелесть нижеприведённых поэтических строк. К чести её, она преследовала совсем иную цель.
Алексей КРИВОШЕЕВ
* * *
Мы держим рубежи – пока –
и в духе Первомая
мы наше знамя, как бокал
шипящий поднимаем
под многогранное «ура».
Беспечные, как люди,
мы – здесь. И есть у нас кураж,
и, несомненно, будет.
Читатель наш поверит нам:
мы все могли, как маги.
Мы жили в наши времена
над миром фирм и мафий.
Эй, теоретик-краснобай,
о, методист искусства,
бери нас оптом, разбирай
и письменно, и устно –
гадай, иль негодуй. Потом
потомок сам проверит,
как бился пламенный мотор
и трепетал пропеллер!
Как ликовали! Заодно
как безутешно гибли!
Как неизменно за столом
скандировали гимны!
Как яд от яростных коллег
ничуть не замечая,
развенчивали королев
бессчетными ночами.
…Мы держим рубежи зимы,
и никого – за нами.
Возможно, никого. Но мы
развертываем знамя.
* * *
Т. Варфоломеевой
Он старится. Ему под тридцать.
(Глубокий вдох, считать до ста).
Он рыцарь. Он тяжелый рыцарь –
случись что, и уже не встать.
Он без оглядки шел по жизни.
Ни звезд, ни смерти не искал.
Почти как все – в линялых джинсах,
в зрачках – надежда. Не тоска.
Но выглядел чуть-чуть усталым
и безразличным. Все равно
он был влюблен. Хоть не писал он
стихов. Да, он не Сирано:
голубоглаз, плюс титулован,
удачлив плюс. Итак, он шел –
нет слез в душе и нету злобы.
И совершенно не смешон.
Как домино шаги звучали,
ночь приближалась. Как удав.
Мой друг, Патрокл мой отчалил,
отчаянно смолчав, куда.
…Уже накрапывали гимны.
Был вечер, как шотландский скотч.
Итак, он шел – шел, чтоб погибнуть –
в Варфоломеевскую ночь.
СИЛУЭТ
Конструкция из хрупких линий,
с печатью «юность» на челе,
кому приходишься богиней?
к кому приходишь на ночлег?
С улыбкой детской или светской
посеешь что и что пожнешь?
В театре действий, в общем, скотских,
актрисочка, чего ты ждешь?
Объект здоровых вожделений,
идешь, как посуху. Паришь,
как мимолетное виденье,
в какой придуманный Париж?
О, нимфа (о, потенциальный
источник вирусов и лжи),
покрасив рот помадкой алой,
прекрасная, куда спешишь?
Туда, где с пылкими устами
и благородны, в «мерседесах»,
как принцы, как под парусами…
И ты походкой стюардессы
идешь себе – и все прекрасно, –
чтоб где-то там, у тридцати,
понять отчаянно и ясно,
что больше некуда идти,
что вместо грез и страстной дрожи –
семья, любовник-комильфо,
и все, что на земле возможно,
вполне достигнуто: комфорт.
И это в лучшем варианте.
Куда, конечно, не вошли
чулки эротомана, бантик,
шприцы с блаженством до вершин,
безапелляционность ласки,
своеобразная мораль
и где луч света в темном царстве –
фонарь. И все. А дальше мрак.
Или сюжет, где смех с фужером,
благополучный смех… И что ж?
…Идешь навстречу всем сюжетам,
со звонким цоканьем идешь.
Иди. Пусть царства погибают.
Иди, чтоб головы кружить.
Как девушке и подобает.
Как и
предполагает жизнь.
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
Памяти А. Купчина
О, неподкупный альпинист,
припорошенный жестким снегом,
позерства без не раз на риск
ты шел, блистательно-бессмертный.
Ты сам все ставил по местам.
Пусть не расставил, но – пытался.
И разве не был твой устав
подстать тебе? Ты не был разве
прекрасней кодексов и вер?
Тогда зачем так регулярно
ты вверх смотрел – как смотришь вверх, –
без слов и – перпендикулярно.
Не сомневаясь ни на треть
ни в чем, рассеянно-бесстрастно
ты смотришь вверх… Чего смотреть
теперь, когда и так все ясно.
Темнеет, и не жди зари.
С великолепием нелепым
ты смотришь вверх. Ну что ж, смотри
теперь уже в чужое небо.
Ты столько опроверг доктрин,
а смотришь в небо, смотришь, словно
мечтатель – на губах твоих
еще снежинки не обсохли.
А было-то их, шансов, два.
Ты их использовал, два шанса –
ты мудро не протестовал
и мудро же не соглашался.
О, возвышаясь над толпой,
ты возражал умно, резонно.
Властитель дум, отныне твой
потенциал реализован.
Предельно определено:
пройдешь и ты, и весь твой социум.
Ничто не вечно под луной,
ничто не ново и под солнцем.
И вот, бессмысленно-упрям,
сосредоточенно-бесслезно
ты смотришь вверх. А там горят
так и не понятые звезды.
* * *
Да будет солнце трижды
таким, как все хотят!
А мы стоим и дышим
в предчувствии дождя:
пусть все к чертям потонет
под ревом дружных струй!
И мы, подняв ладони,
дождю, как божеству,
твердим свою тираду,
мол, струны струй настрой,
приди, мол, и порадуй
парадом свежих строф,
простым телячьим приступом,
изысканным литьем!..
Мы спрашиваем пристально:
когда же дождь придет?
Пройдет, и мы – пираты,
как в юные года.
Когда нас дождь порадует?
Действительно, когда?
Мы ждем смиренно. Ежели б
в лиловых небесах
электро-громовержец
иероглиф написал,
чтоб дождь над Петроградом
пошел – и город смыт!
…Когда нас дождь порадует –
порадуемся мы.
КЛАССИЧЕСКИЕ РОЗЫ
Все в моей отчизне просто,
где встают в единый ряд
и кумач, и пурпур розы.
И заря, заря, заря.
Где еще прекрасны грезы,
где гудит набат любви.
(О, любовь! Бутончик розы
и к нему бокал «Аи»).
Подлость, подвиг, все вслепую.
…За тебя, Россия, тост.
Где ж еще бессильны пули
перед венчиком из роз?
И в стране моей, где слезы,
будто звезды, солоны,
все не увядают розы,
все витают соловьи.
И в финале нет вопросов.
Ведь всегда в моей стране
хороши и свежи розы –
предназначенные мне.
ФЕМИСТОКЛ
Над флагом, над прахом, над плахой клянусь
– один, и не более, в поле –
тебе мои мысли (и минус, и плюс),
мой демократический полис.
Мой полис стремительно и, как на грех,
взрастит мне стерильную смену.
Рви лавр, вари, героический грек.
Твой статус настал, современник.
С венком хромосомным от мулов и муз,
ты выдержишь, выживешь, сможешь –
суммарным лицом ты и гомункулус,
и генералиссимус тоже.
Ты принципиально все вехи мои
своею рукой переставишь!
Предельно не авторитарен, но и
– по определенью – бездарен.
И нотариально, по пунктам, следят
бесстрастны, как боги Олимпа:
мой полис, мой плебс – мой бесспорный судья! –
и мразь коренного калибра.
Светись, современник, всегда и везде.
Мой о. Саламин огибая,
ты прав, слаломист, что без лишних гвоздей
сдаешься, но не погибаешь.
Народом моим исторический путь
– мой путь! – методично отсчитан.
Мой полис, мой полюс, мой импульс и пульс,
немая моя, но Отчизна.
* * *
Степенным шагом или в мыле,
на ослике ли, на кобыле,
войдем в Ершалаим по пыли,
а дальше – дальше Стикс.
Ну что ж, поплыли, друг Иуда,
ты первый, не дождавшись утра,
все точно понял. Знаю, трудно,
но ты уж им прости.
Что осуждать, они – потомки.
Над ними, как всегда, подонки
с идеологией – по тонне
на каждого. Умы!
Война томами «Капитала»
питала кровь. И как питала! –
они с «Интернационалом»
идут на смерть. А мы
возьмем Иакова и брата,
Марию, отроков (Пилата
с солдатами – невиноватых),
оставим же взамен
все достижения, все цацки,
суд неподкупный, чистый карцер,
принципиальность Лиги Наций.
И сей ассортимент
уж навсегда: как иды – с мартом,
закон с Ликургом, яд с Сократом,
дегенерат с денатуратом,
с гармонией любовь.
Проверенный по пунктам истин,
о, да пребудет миф без мистик.
О человек, все в этой жизни
тебе – бери любой
фрейдизма постулат, доктрину
свободы слова, нимб кумиров,
Содома сад. (Но метод Рима –
доверчивость и ложь).
Как эпилог – бардак и слезы.
Совсем иным сей мир был создан.
Но праздно рассуждать. И поздно.
Зовет заря. Ну что ж.
ОДИССЕЙ – ТЕЛЕМАХУ
Ты вырос и, мое дитё,
силен, как Дорифор.
Теперь пойдешь своим путем,
а жизнь путем реформ.
И не гневи ее, судьбу,
обжегшись молоком,
и пусть покажется, что путь
какой-то не такой.
Воздвигнув чудо из семи,
все обратишь в ничто –
ты для того пришел в сей мир.
Таким, как есть, пришел.
Встречая пепел на пути,
на брачном ложе – ложь,
найди себе свой позитив,
найди и приумножь.
Мир пред тобой, ваяй. Воюй
умно и без меча –
триумф на улицу твою
придет. Но не сейчас.
Перенесешь любовный шок,
дефолт перенесешь –
ты для того в сей мир пришел.
Вот, собственно, и все.
ГОМЕР
В. Сосноре
Кто я? Пророк? Просветитель? Урод?
Боже, как жаждал я радужных солнц!
Жадный до жизни, я слеп. Лишь обрел
дрему дремучей архаики. Сон.
Мрамор – глаза мои, – мрамор. И зря
в белую бездну свой взгляд ты уставишь.
Пальцами, слышишь, я пальцами зряч.
Блеск этих глаз – только снег и усталость.
Им не дано ни порхать, ни парить.
Мышью летучей я маюсь во тьме.
Я же Гомер, а не просто старик.
Видишь, я тризна по этим и тем.
…Дым у бортов. От мостов. О восторг!
Тысячу лет набухал он в слезах
таявших век. Да, мы шли на восток,
смуглое мясо месил мой тесак.
…Бурю, Борей!.. Только парус обрюзг.
Слеп, я не ведал, о том, что творил.
Вот и не знаю теперь, что творю:
мой шестистопник, шесть крыльев твоих.
И не проси меня: выпей и спой!
Я – это память камней и комет,
плач о былом – а непросто слепой.
Я – навсегда: я Гомер.
* * *
Искатель гипсовых гармоний,
раб ностальгических удуший,
с какой сражаешься Горгоной,
какой Цирцее тихо служишь?
Все веришь в доброту наитий?
Когда высоко и устало
несуществующие птицы
кричат больными голосами,
так и застыл – глазами в Лету.
Не растолкают, не прогонят.
Хранишь высокие обеты?
Все веришь в высшие законы?
Покорно отбывая время,
сюжеты, говоришь, сюжеты.
И уплываешь в мир Лоррена,
сползая в сон под скрежет ветра.
* * *
Столица мира. Ибо там…
Ну что ж, войдем в столицу мира.
Там лифт из бронзы, как мечта
Аменхотепа из Каира.
По белым клавишам – вошел.
Ковры и мрамор. Пахнет елкой.
Что ищешь тут, в краю чужом?
Кого оставил там, в далеком?
Нигде любимого лица
и не найдешь, и не забудешь.
Темнеющий сей сад Ривсайд
в огнях, в деревьях и безлюден.
И нет луны. Заметил вскользь
один Каспар из Вавилона:
чем над Нью-Йорком меньше звезд,
тем больше лампочек неона.
И что есть звезды без нее,
без птицы-журавля в ладонях?
И что стареющий Нью-Йорк?
Он в декабре – в дожде. Он тонет.
Красиво тонет, в свете ламп.
Титаник мировой печали!
(Печаль, однако, не светла:
ведь нет титаникам причала).
Но – обойдется. До поры:
не знает мир столицы вечной.
…Собаки и портье добры
и улыбаются при встрече.
Печаль, как эта жизнь, пройдет.
Пройдет. Как юность. На носочках.
…Вон Санта Клаус под дождем
звенит! в свой нищий колокольчик.
* * *
Усвоив то, что брода нет в огне
и не было, а были только те же
черты любимой женщины твоей,
имей уменье выжить без надежды,
когда в один из календарных дней
судьба попросит все-таки отдать,
и шаг любимой женщины твоей
пройдет в простое прошлое, когда
в канун утрат прекрасные вдвойне,
фиксируют, приблизившись к лицу,
уста любимой женщины твоей
изящный – и холодный – поцелуй.
* * *
Чего тебе еще, художник?
О чем рефрены-рифмы шепчешь?
Ты слышал лепет страстной дрожи
из уст непобедимых женщин.
Какие «творческие муки»?
Ведь ты срывал плоды, как в басне.
К кому благоволили музы
без жертв, без виражей кабацких?
А ты перед лицом планеты
скорбишь, и скорби нет прекрасней,
чем перечень ничьих и недо-
реализованных фантазий.
Сочувствия? С чего б, избранник?
Тем – ни гроша, тебе – алтын.
А ты забыл его истратить,
а ты зарыл его, а ты
с улыбочкой не по погоде,
как в cinema, стоишь и машешь
вослед всему, что в даль уходит.
Уходит вдаль, и вдаль – и дальше.
* * *
То не сотня бойцов по степи, то в стихи –
что-то кровное – капля, – а не возвращалось.
Нет, вдали у реки не штыки стерегли –
тридцать три собрались, начеку, беспощадных.
Он же стих, он до точки. И все, и замрет.
И закроются очи, и пальцами в почву.
Я за пазухой нянчил зародыш. И вот:
тридцать три механических тюкают в полночь.
Тридцать три расклюют. Где свои? за версту.
И ни конь-друг-любимый, никто не склонился.
Что-то кровное, да, только нет, не спасу:
пусть уже трепыхнет, отщепенец, страница.
Никогда ни единый оттуда, из книг.
Лишь у самого края заря зеленела.
Только степь да заря. И ни звука. Ни-ни.
И еще: догорали огни.
Выбор редакции
Новости партнеров
