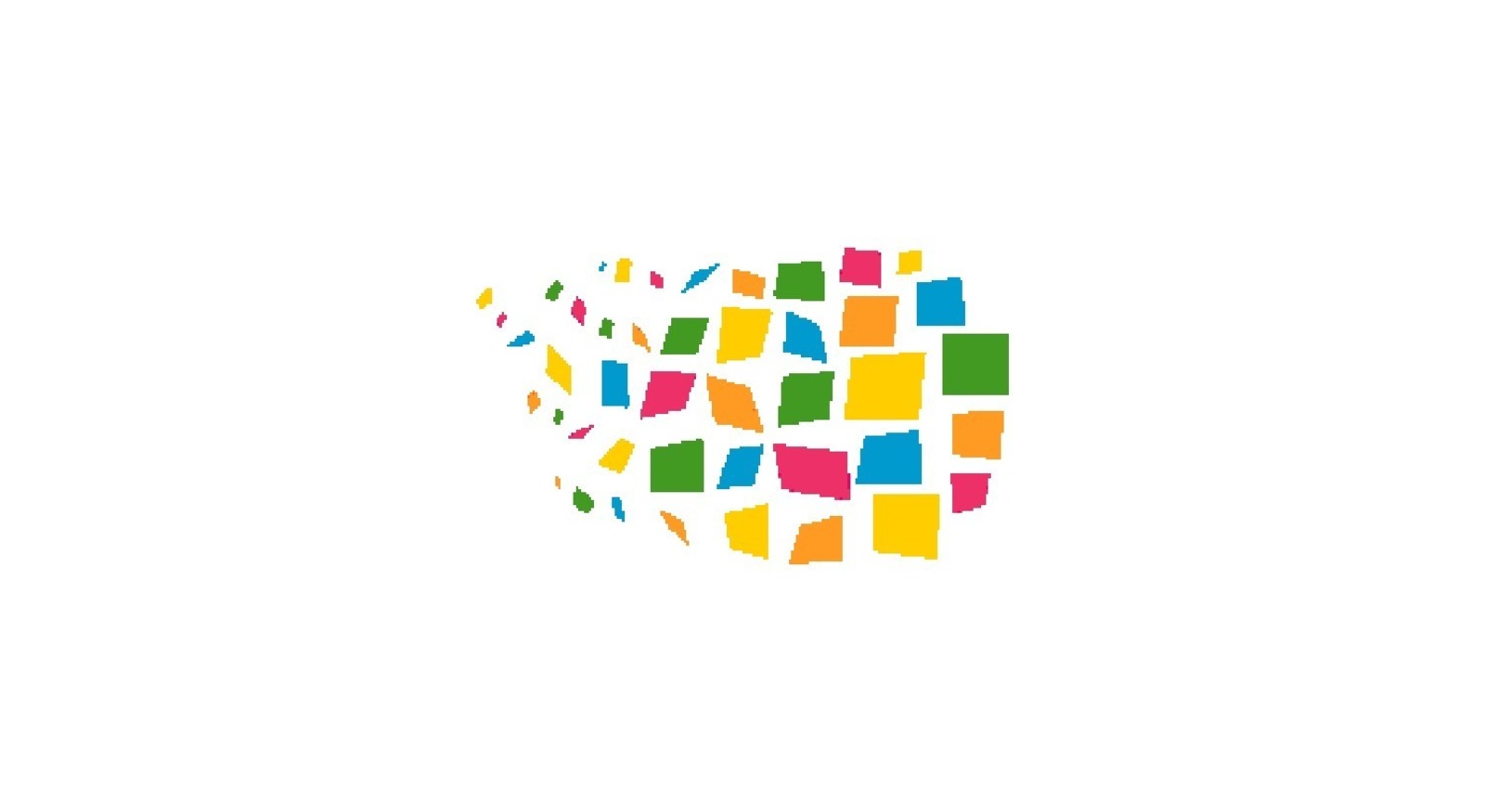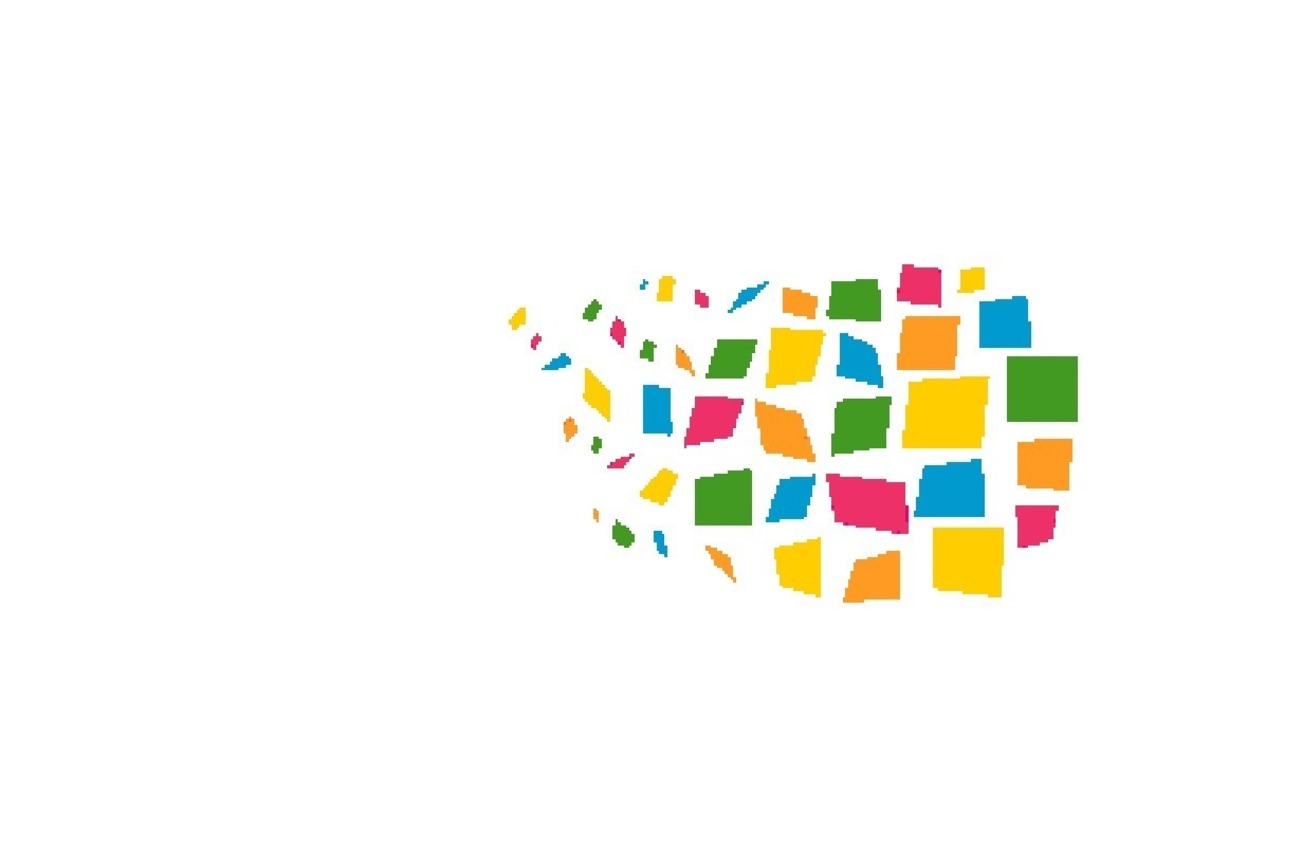Данила Давыдов тогда казался мне юным гением, который ярко вспыхнет и быстро сгорит. На нем была странная отметина, которая потом, после Литинститута, как-то стерлась. Он как-то слишком быстро и ненадежно повзрослел. Я была влюблена, жить снова не собиралась, но мне было приятно рассказывать Даниле о рок-музыке и покупать ему кассеты на те гроши, что подбрасывала мне мать. С лотка я ушла и работу даже и не думала искать.
Перед новым 1996 годом приятно посидели у Корецкого дома. Новые мои стихи одобрения не встретили, потому что были очень христианскими. Данила считал, что это просто святцы. Но я уже нащупала нечто, что потом разовьется в «Родительской субботе» и никому не нужно будет.
А в Углях тогда жили мать и племянница, катапультированные ввиду нового года сестрой из Москвы.
«Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь». Когда я умру, пробегу, не касаясь земли по февральскому снегу. Вариация на тему Галича, только эта строчка и сейчас. Но тогдашнее мое состояние отражает.
Контакты мои в литературной среде увеличивались, и во многом благодаря Даниле. Он стремился со всеми познакомиться и наладить отношения. Я узнала, что есть салон Руслана Элинина при библиотеке имени Чехова, что есть Георгиевский клуб. Познакомилась со стихами Всеволода Некрасова, Геннадия Айги, и многих других авторов. Но тогда эти имена я всерьез не воспринимала. Поток авторов неофициальной культуры был огромный. И надо отдать должное ДК — он справлялся.
Я снова вышла на лоток, но силы были уже не те. И я, сопоставив размер зарплаты и затрату сил, просто уехала с выручкой с точки. Какое-то время я носилась с этими двумя тысячами и даже хотела положить их под проценты в банк, но проценты оказались мизерные. Тогда я сняла все и отдала ДК. На «Вавилон». Третий. И новый «Вавилон» вышел с «Рыбами» Максима Анкудинова.
Примерно в это время мы не то, чтобы подружились с Воденниковым, но ему казались интересными некоторые мои стихотворения и строчки. Однажды мы выпили кофе в Макдональдсе и как-то симпатично поговорили. Воденников предложил сделать эскиз обложки для «Репейника». Я сделала, и ему понравилось. В результате, конечно, обложку поменяли по не зависящим от меня обстоятельствам, что, насколько помню, и самого Воденникова не порадовало. Он хотел белую обложку со словом «Репейник», который написал бы человек, почти не умеющий писать. Я не особо расстроилась, но увеличила орбиту общения. Как же, Воденников — автор «Репейника», а я где.
Вечер памяти Нины Искренко в Чеховке был какой-то нелепо парадный. Это странное ощущение подчеркивали, даже выпячивали портреты Нины в стиле Энди Уорхола. Видимо, отгородившись от этой нелепой парадности, Пригов просто заснул. Он сидел как раз за мной и довольно громко сопел. Когда вечер закончился, и ведущий, неуместно бодрый, пригласил на следующий вечер, Пригов внезапно проснулся и спросил громко:
— Псов-часов?
Было сказано, что вечер начнется в восемь часов.
Но Пригова с того вечера я всерьез уже не воспринимала. Одно дело я, без роду и племени перекати-поле. Другое дело — всесоюзная кикимора. Но в Пригове, как и во многих личностях неофициальной культуры, все же было некоторое достоинство.
В январе 1996 скончался Бродский. По этому поводу в Лиге Литераторов было странное собрание. Не траурное, а задумчивое. Чувствовалось, что для Бунимовича поэзия Бродского значила очень много. Для меня нет, но фрагментами Бродский был необходим. Со временем я все же вчиталась в его стихи, и даже стала тяготеть к «Осеннему крику ястреба», но продолжала морщиться от поздних опытов. Кто-то из знакомых мэтров (а возможно, просто Сосна) сказал о Пастернаке, творчество которого мы эмоционально обсуждали: он тебе чаю не налил. О Бродском могу сказать то же: мне не хватило чая.
То собрание запомнилось мне предощущением перемен и мои собственным нечаянным хамством. Я сказала: пусть мертвые погребают своих мертвецов. Это было ни к чему. Бунимовичу стало даже неловко за меня, но я выразила что-то такое, что мучило не только меня.
А тем временем Рига поставляла в Москву и «Родник», и «Третью модернизацию». А там были стихи Шамшада Абдуллаева, иже ферганская школа, и критические опусы молодых петербургских корифеев: Кирилла Корбина, Голынко-Вольфсона. Не помню точно, были ли там стихи Василия Кондратьева, но вероятнее всего, что были. Рига не имела того веса, который имел якобы подпольный «Митин журнал», но при чтении казалась более свежей и подвижной. Надо заметить, что «Родник» и «Третья модернизация» очень разные издания, выходившие в разные временные промежутки, пусть и небольшие, но временно-локальный отрезок все равно один. Мне не хотелось бы употреблять слово «постмодернизм», но без него в разговоре о рижских литературных новостях, на которые ДК очень живо реагировал, не будет смысла.
Я бы предложила новое слово: постинтеллектуализм. Ну какой интеллектуализм в девяностых двадцатого века. А вот «пост» вполне может быть. Авторы в названных журналах были самые разные. Оттуда и от ДК я впервые услышала фамилию Скидана, чьи стихи напомнили мне тексты Егора Летова, но без летовской экспрессии. Впрочем, у Скидана были другие задачи. Имя Сергея Сержанта в московском литературном сообществе тогда было на слуху. Сержант привез номер «Третьей модернизации» со стихами Всеволода Некрасова в Москву. Я помню Сержанта очень приблизительно. Подвижный, улыбающийся человек несколько хиппового вида.
В Зверевском центре, кажется, даже была презентация рижского творчества. Женщины в одежде, напоминавшей африканскую, танцевали энергично под электронную музыку, а поэты показывали свою незаинтересованность в слушателе и заинтересованность в спонсорах.
Той же зимой в Лиге литераторов состоялся авторский вечер Алексея Корецкого. Присутствовал даже ДК. Но ДК не пропускал ни одного стоящего внимания мероприятия. Вечер удался. Сам Корецкий, когда вышли на улицу, как обычно поболтав и потусовавшись на площадке, с улыбкой сказал:
— А в небесах торчит Юпитер, сука.
Не то это была строчка из его стихотворения, не то экспромт. Но было здорово. И с этим юпитерианским настроением мы разошлись.
В Чеховке я почти всегда отчаянно скучала. Поняла, что просто не люблю литературные вечера. И вот, во время какого-то поэтического чтения, я придумала игру в Маугли. Данила, конечно, был мудрым Каа. Себя я назвала Багирой. Но Воденников сказал, довольно мягко и уверенно:
— Нет, ты не Багира. А вот на волчицу, защищающую своих волчат, ты похожа.
Это было повышение.
В апреле, под давлением родственников, я начала искать работу. Это было сложно. Потому что мне уже двадцать шесть, навыков программирования и торговли в достаточном объеме я не имела. А что это ты так, спрашивали меня не только родственники. Здоровье ухудшалось, и никто на это внимания не обращал. Социальное мое положение было крайне нелепым. У меня не было жилья: ни в собственности, ни муниципального. Как это случилось, я не помню, но предполагаю, что мать и старшая сестра просто подделали мои подписи или что-то в этом роде. Так или иначе, в Углях уже я не была хозяйкой, а квартира ждала часа продажи. Я, как и полагается перекати-полю, держалась отличным молодцом и даже писала стихи, но смысла в этом не видела.
* * *
В любом из нас комический актер,
покуда живы сами, умирает,
почти надеясь изумить других.
И, может быть, что даже на поминках
нечаянно друзья уронят смех
на важное величество актера,
от радости — узнав его черты
влюбленностью застигнутого клерка.
* * *
Алексею Корецкому
Алеша, вот, на книжной полке пусто:
толпятся лишь обложечки от книг,
и все со вкусом стареньким. А чувство
всего на свете — может быть от них.
От них и жизнь как будто развернулась
и приласкала — до сих пор печет.
Не спи, Алеша! Кошечка проснулась
и твоему добру ведет учет:
изволь опять дожить до воскресенья.
Мы все к тебе как облаки в штанах,
животные, и птицы, и растенья!
И, стало быть, что не за книги — страх,
а лишь за то, что сразу насмерть ранят,
а лишь за то, что сразу насмерть бьют.
… А там, во сне, во сне как в древнем храме,
а там все вместе
«Верую!» поют.
Но какой-то заработок был нужен, потому что у меня теперь был Данила, с которым у нас все случилось весной на лестничной площадке, и я была первой. Так что Данилу надо было кормить и развлекать. Однажды я решила посетить музей Рериха. Там требовался продавец. Я совсем было настроилась работать на Рерихов, но в Углях оказалась мать с сообщением, что моя старшая сестра велит мне выходить на работу в какую-то странную фирму, а за это меня пропишут в Москве. Терять мне было нечего. Все равно я долго не проработаю в этой конторе и долго не проживу. И я вышла на работу. И у меня появилась возможность набирать свои стихи на компьютере и распечатывать их.
То было время поедания новых стихов новых авторов и впечатлений. Данила оказался маленьким, но рослым моим Вергилием: он рассказывал о том, что я не знала, охотно и живо. Я любила его слушать. Мы обожали Хлебникова, ходили на разные литературные вечера, которые Даниле нравились, а я переносила их с трудом, как алкоголь. Но я запомнила стильно-узкие клетчатые брюки Игоря Холина, который в суждениях был жесток, но в нем была мудрость. А еще то, что я так ценю: самостояние. Сапгир очаровывал, и в него можно было влюбиться, несмотря на авторитетный возраст. Мне еще предстоит услышать от него великолепный комплимент. Данила особое внимание мое обращал на «Черновики Пушкина», и я с ним соглашалась, что это значительное явление современной поэзии, хотя и не без скепсиса. Я в разговорах с Данилой держалась этой линии: циничного скепсиса.
А тем временем, к концу весны, Корецкий и команда окончательно сформировали «Окрестности». Алексей Корецкий, Данила Давыдов, Кирилл Анкудинов, Максим Волчкевич, Ян Страут, Евгения Кайдалова и Майя Шполянская составили ядро альманаха. Я, как всеми любимая, но переменная величина, тоже получила свое место.
Мы грезили (немного преувеличиваю) тоталитарным романтизмом. Слово «тоталитарный», кажется, предложила я, намеренно исказив термин. Кажется, именно я больше всего носилась с идеей воскрешения романтизма в новых условиях, благо «Репейник» Воденникова уже вышел и получил свой триумф. Следовало бы сказать: тотальный романтизм. Но я решила использовать емкую и экспрессивную форму из текста Кинчева: «тоталитарный рэп». В этих стихах должно было быть много патетики, риторики и ощущения гибельности, обреченности на поражение. А так же — презрения ко всему материальному в контексте настоящего социума. То есть: кошек обожаю, но на компьютер денег жалко. Корецкий и Давыдов надо мной иронизировали, но мы все хорошо понимали, в чем смысл тоталитарного романтизма и как он нестоек.
Поскольку концепция «тоталитарного романтизма» увлекала не только меня, Данилу и Корецкого, а критик наш Кирилл Анкудинов (писавший вполне достойные стихотворения) этой концепции не опровергал, получилось вполне романтичное раздвоение и даже растроение. Прежде, чем вышли «Окрестности», вышли два, распечатанных на репринте, сборника: «Между-речье» и «Окоем». Мои стихи как-то не особенно вписывались в этот праздник журналов, но они там были. Данила, как наиболее активный и честолюбивый, а еще гениальный, взялся за устроение вечера. Но помещение, кажется, нашел Корецкий: какая-то довольно любопытная галерея в районе Курской. На презентацию пришла я с потрепанной старой репродукцией Левитана «Золотая осень», которая как факт выражала для меня настроения обывателя. Бумажный пейзаж был перечеркнут мною толстой линией красной гуаши. И еще там красовалась хамская надпись, не помню уже, какая. Шокировать художников этим было нельзя, но меня взбодрило. И конечно это было издевательство над репродукцией, как вошедшей в быт пошлостью, а не над Левитаном, которого я и тогда обожала как художника.
На этом вечере я познакомилась с Яном Никитиным, лидером группы «Театр Яда», которого пригласил Данила. Наркотически эфемерное создание красиво ходило по помещению и смотрело грустно и понимающе.
Мы все тревожились, что вечер провалится. Корецкий тоже, но у него отличная воля. Я вела себя не лучшим образом эпатажно, Данила просто нервничал. Вдобавок, я начала его терзать, потому что наши отношения зависли, и требовалась перезагрузка, но мне не очень хотелось ее делать.
Вечер провалился, наша гениальность тоже, но мы родили «Между-речье» и «Окрестности», которые проживут до конца двадцатого века уже без меня.
Продолжение следует…