Моя литературная жизнь. Часть третья
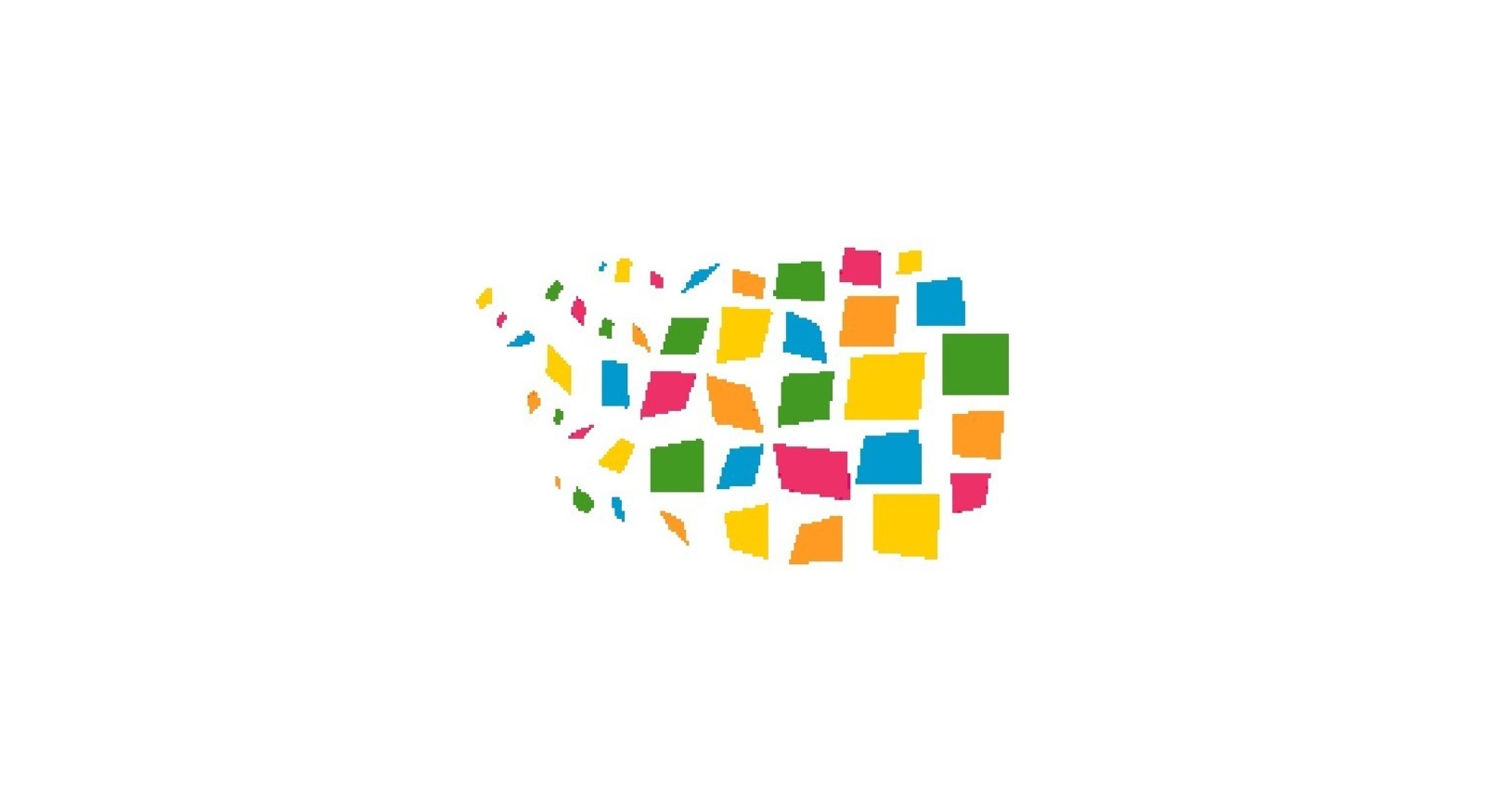
Пока Черы были в отъезде, я побывала в модном тогда клубе на Первомайской, который назывался просто и ясно: “Не бей копытом”. Про этот клуб я узнала от музыканта группы “Оптимальный вариант” Сергея Андрейцева, он же Зерги. Мало ли какие в Москве группы бывают. Но название меня заинтриговало.
В то лето я довольно часто посещала Крымский вал, или Крымку, где находились оживленные ряды самых разнообразных ремесленников. Черы предлагали там украшения из кожи, расписанной выжигателем. Узор был закреплен специальным лаком. Я однажды тоже попробовала выжигать по коже, но Чер сказал, что грубо. Он вообще был привереда. На Крымском я и познакомилась с Зерги. Зерги изготавливал дорогие ремни с цветной росписью. Их покупали неплохо, и, в основном, мажористого и умного вида мужики.
Клуб “Не бей копытом” находился к глубине района Измайлово, но в темное время суток сиял и привлекал энергичными звуками. Кажется, я была там на концерте “Оптимального варианта”, “Рады и Терновника”, с последующим знакомством с самой Радой, оказавшейся при близком рассмотрении красивее, чем на сцене, и на концерте “Крематория”. Где нечаянно встретила Злыдня. Вот так так. Адепт экстремального панка пришел на “Крем”.
На концерт “Оптимального варианта” меня провел сам Чилап, лидер группы. Он увидел нас с Графином и Карлссоном Воронежским, и как-то ненавязчиво, пока болтали, провел. Музыка мне понравилась. Зерги походил на Робби Кригера, правда, в очках: сдержан, мощен и внезапно резок, что, мне кажется, хорошо для гитариста. Чилап был вне конкуренции: пластичный, нервный, каким и должен быть музыкант, и довольно неплохой автор стихов. В перерыв я вышла из здания, потому что курили вне здания. И некий молодой человек лет двадцати заговорил со мной в надежде романтики. А я казалась себе очень старой. Зачем мне романтика. Знакомая моя после этого концерта прозвала меня “Женщиной с тараканами”. Мне же понравились две вещи: “Животное грядет” и “Костры горят, как красиво!”. После концерта в подсобке я прочитала Чилапу пару стихотворений тогдашнего вида, грозно-наивных. Ему видимо понравилось. А потом довольно веселая компания, обнявшись, танцевала в пустом зале нечто ритуальное.
Стихи тогда пришли странные. Я писала почти весь год средневековый цикл, который позже назову “Из Ренау Тьерка”. Это была анаграмма на имя Кретьена де Труа, тогда любимого трубадура. Я и сама чувствовала себя трубадуром: бесприютным, веселым, несмотря на огорчения, с массой черного юмора. Лазарю Соколовскому, на которого я напала снова, стихи не понравились. Он снова что-то сказал о романтизме и о семье. Зачем мне семья? Как оказалось, я не ошиблась в расчетах. Мне за пятьдесят, но вокруг меня все тот же черный юмор. Какие родители, какие друзья, какая слава. О чем вы?
Эпитафия
Позвольте эпитафию сложить!
Покойно спит земли моей неровность.
Два дерева – Стыдливость и Суровость
Сюда пришли и поселились жить.
А раньше жили Засуха и Грусть,
Огромные колючие растенья.
Посева неколеблемого пенье
Возвышенней любого из искусств
Могло бы стать. Но тишина такая,
Что вытолкнутый ею никнет звук.
И если навестит меня мой друг,
В глаза ему взглянет земля сухая.
Да, это место вольное не вдруг!
Смущаются встревоженные силы
Занять его – ведь нету здесь могилы
Здесь труд не мой, как и не мой досуг
Здесь от меня – ни одного карата.
Я не тревожу ни ушей, ни глаз –
Вы чувствуете? – Это ради вас
Я посадила здесь шалфей и мяту.
Переход из 1994 в 1995 произошел сыро, в Теплом Стане, под песни Райнхарда Мая, немецкого барда. Я хотела встретить новый год с Кириллом Прудовским, но Кирилла не было дома или он просто не открыл.
Кроме несчастья на личном фронте со мной случилась работа переводчиком. Екатерина Третья познакомила меня с дамой из редакции, и та, несколько сомневаясь, дала мне тест, который я прошла хорошо. Нужно было представить перевод любимого текста. Я перевела из Моррисона, едва ли не “Тихий парад”. Тогда мне предложили переводить ролевые романы из серии “Драгонланс”. С первым романом случился косяк, по неопытности, который я удачно исправила. Переводы достались и Черам. Чер знал язык очевидно лучше меня, но у него выходило как-то медленнее, хотя и солиднее. К весне работа растаяла. Я сделала тушью и пером пятьдесят две карты таро и отвезла их в редакцию журнала “Путь к себе”. Я, как и Черы, считала себя адептом нового пути к себе. Читала Гурджиева, который у меня был собран почти весь. В редакции подивились тонкости рисунка, но сказали, что при печати вся красота исчезнет. Пришлось вернуться к торговле книгами, но уже в Олимпийском. Зарплата там была сравнима с выручкой на газетах.
В мае 1995 у Чера умер отец, и они вознамерились продать две свои комнаты. Я согласилась на квартиру в Сочи или Мариуполе. Черы жили то там, то там. Но время шло, а просмотров не было. В ожидании я проболталась матери, что скоро уеду из Подмосковья. Подумать только: рядом будет море! О плохом мне просто не думалось. Мать сообщила о продаже недвижимости старшей моей сестре, которая тогда скупала все комнаты и квартиры, которые видела. И вот акт великого благородства свершился: Черам хорошо заплатили за две комнаты, а я осталась без собственности. Двойной обман. Но пока было можно, я жила в Углях, слушала “Дэд кен Дэнс” и “Гражданскую оборону”.
Этим же летом я узнала, что разбилась, сорвавшись с карниза, Багира. Сольвейг по этому поводу устроила личный траур. Я понимала ее, хотя Багира мне особенно близка не была. Баги упала как красный цветок утром, хотелось мне сказать Сольвейг, но я не посмела. Впрочем, Сольвейг прочитала это в моей паузе. Баги была одной из последних зарниц волосатого времени. Пафосно, но верно. Впрочем, информация о волосатых уже была доступна, а с появлением интернета ее стало просто очень много.
В Детском эстетическом центре стало не так интересно, и я перебазировалась на Халтуринскую, домой к Корецкому. Там же познакомилась с Людмилой Вязьмитиновой. Она поражала своей мягкой дотошностью и симпатией ко всему окружающему. А еще была очень хороша внешне.
А тем временем подбиралась кошкой сухая осень. И я решила устроить в Углях выставку. Это было подлинное и окончательное прощание. Но об этом я не особенно говорила. Как ни странно, согласился приехать Корецкий. Он даже привез свои работы, напоминавшие то гравюры девятнадцатого века, то космические видения. Словом, солярис. Но солярис мне только предстоит открыть. Согласился приехать и Воденников. Кроме названных были почти все члены будущих “Орестностей”: Максим Волчкевич, он же мозг и вдохновитель, Евгения Кайдалова, у который были любопытные опыты в стихах и прозе, филолог Майя Шполянская. О Даниле Давыдове Корецкий, кажется, рассказывал, но я еще не была с ним знакома. Большую комнату в Углях украсили свежими осенними листьями. На одной стене разместили мои деревья, на другой – работы Корецкого. Волчкевич даже что-то задумчивое сыграл на гитаре.
Когда народ сел за стол (предлагалась самодельная выпечка), кот мой Спиридон ловко и невероятно быстро вскочил на стол, оттолкнулся лапами от Воденникова и вылетел в окно.
– Вернись, я все прощу! – Изумленно подскочил Воденников.
Судьба квартиры была уже решена, но когда именно ее продадут, не знала даже мать. Впереди были двадцать шесть лет мыканья по углам, а мне еще и двадцати шести тогда не исполнилось.
Я продолжала выходить на лоток в Олимпийский и жить в Углях. Родственников это раздражало, потому что они вообще не понимали, почему я живу – и как так можно. Их непонимание забирало мои силы нешуточно.
Кроме лотка я повадилась ходить в студию Бунимовича и Ковальджи, которую называли “Лилит” или “Лига Литераторов”. Мне нравился дом на Никитской, где студия находилась, я любила смотреть на Москву с подоконника в холле. Декабрь в тот год выдался очень теплый. Про эту студию написано уже много, а я не то чтобы была частым и активным гостем. Но Бунимович меня заметил. Марк Шатуновский как-то обмолвился, что я чем-то напоминаю Нину Искренко. Вероятно.
Кирилл Владимирович отнесся ко мне с невероятным теплом и желанием помочь. Но что он мог сделать в той ситуации. Только слушать мои стихи. И он слушал, что говорит о нем больше, чем все похвалы. Человек он был правда золотой. А я была еще та Маргарита: никогда ничего и ни у кого не проси. Воденников и Корецкий это понимали, я это чувствовала.
Из личностей известных на заседаниях Лиги частенько возникали Юрий Арабов, одно из стихотворений которого, о всеобщем прыжке, было созвучно моему настроению. Анастасия Харитонова, известная переводчица и неординарный поэт, говорила мало, тихо, но всегда более, чем по делу. И внешне она была прекрасна. Это была красота блаженной: яркая, но как бы диковатая. Ольга Иванова в большом ярком платке на голове, была сравнительно редким гостем, но ее выступления запоминались.
Парадоксальным образом у меня складывались разговоры с Марком Шатуновским. Я тогда решила пользоваться достоинствами изгоя: хамить, высказывать, что думаю, перебивая рассказчика, и смеяться, над чем можно. Как-то раз Марк в отзыве на стихи (не помню, чьи) употребил слово “экзистенциональная”. Для меня иной формы, кроме как “экзистенциальная” не существовало, что я и озвучила весьма невежливо. Марк, к его чести, ответил спокойно и интеллигентно. Как-то я задела своими понтами Арабова, и он сказал, посмотрев через плечо грустными глазами:
– Девочка, мы с вами в одной могиле лежать будем.
Он ошибался.
– Я с вами не лягу, даже в могилу.
Поздней осенью я познакомилась с Данилой Давыдовым. Культурный слой (имею в виду социальные сети) не сохранил того обаяния, которое несло это нечесанное существо, оказавшееся под лампой у Корецкого в тот морозный день. Поясняю: Данила сидел рядом со столом Корецкого и на него светила лампа. Волосы у него лежали как у немецкого романтика. Я и спросила:
– Данила, можно вас причесать?
– Уже пытались, – ответил он, – Как видите, не вышло.
24 декабря в Лиге литераторов состоялось обсуждение моих стихотворений. Как я составила подбор и как его передала оппонентам, не помню. Зато помню, что Корецкий выделил “Уход уладов”, Людмилу зацепила драма крови и неба в строчке “небо спорит с кровью”, Данила наговорил комплиментов, хотя и не без яда, а Кирилл Анкудинов отметил несколько стихотворений, попутно передав мне мнение какого-то человека со званием, что, мол от моих стихов пахнет “плохо переваренным дионисийством”. Оппоненты дружно не согласились, но Кириллу это определение понравилось.
Надо сказать, я в то время считала себя христианкой. Просто потому что нужно умереть достойно, а кроме как в христианстве я этого “достойно” не видела. В храм я не ходила, потому что знала, что мне скажет священник. Так что сначала нужно разобраться самой, без всякой матери. Читала богословскую литературу монашеского толка, но к себе конечно не применяла. Я же проклятый поэт. Но христианство привлекало. И среди литераторов я встретила сочувствие, например, у той же Людмилы и у ее супруга Андрея Цуканова.
Продолжение следует…
