Моя литературная жизнь. Часть первая
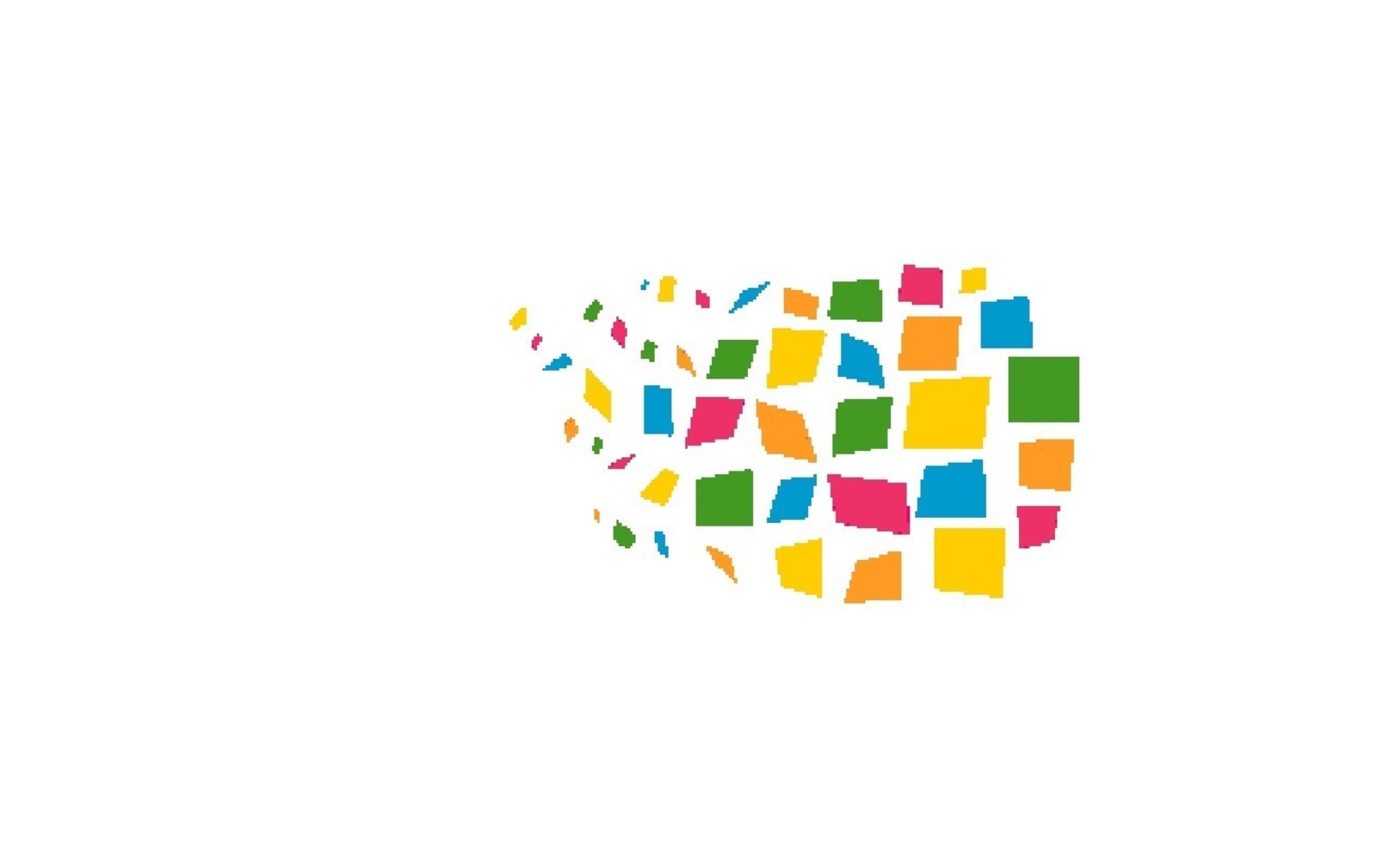
1993 – 2007 гг.
Литературная жизнь моя с 1993 года стала напряженнее, сложнее и оживленнее. С приливами, отливами, неявным большому миру звезденьем и парой-тройкой отказов от довольно серьезных для автора вещей. Съемки на телеканале “Культура”, например. Для описания придется поднимать не одну тонну материалов, но я библиотекарь.
Теперь время в записках пойдет плотнее: больше информации на страницу, и потому часть людей, которых я знала, просто здесь не появится.
Но вернусь несколько назад, когда я еще не совсем рассталась с Соколовским, но уже обросла новыми знакомыми. Знакомые были более чем интересные и очень разные. Однако, благодаря этой разности я до сих пор вижу общие черты. Нам всем было 12-14 лет, когда мы смотрели новый фильм “Остров сокровищ”. Первоклашками мы пели “На дурака не нужен нож” из “Приключений Буратино” и древний, но душевный блатняк. Едва закончилась начальная школа и начались иностранные языки и химия, в нашу жизнь вошел Афганистан. Мы поняли, что жить нам придется в штормовом море. Потому у всех моих знакомых, особенно мужского пола, до сих пор тяга к головокружительным проектам, по сути неосуществимым. Это все от любви к приключениям и чувства симпатии мира к нам, которую младшие наши ровесники, примерно 1975 года рождения, уже ощутить не смогли. Мальчишки намазывали на хлеб горчицу, девчонки намазывали синие школьные спины мальчиков зубной пастой и дрались как валькирии. Мальчишки не отставали.
Лето 1993 запомнилось мне синтетической юбкой-солнце. Мать моя, с которой были очень странные отношения, как-то купила ацетатный шелк довольно хипповой расцветки: лиловые цветы, розовые и оранжевые пятна. Но он кому-то не подошел, и его отдали мне. Шелк сыпался, шить его было трудно, шила я на руках и косо, но за день сделала веселую летнюю юбку – солнце-клеш, косенькую по подолу, но длинную, так что перекос заметен почти не был.
И в этой юбке я оказалась на очередном собрании “Лав Стрит”, который проходил в Детском эстетическом центре на Кировской, а ныне Чистые Пруды. Здание Детского Эстетического центра стоит и сейчас. Это довольно любопытный деревянный новодел с ностальгией по скандинавским домикам. Внутри есть цокольный этаж, в основном помещении – огромная галерея. В этом центре были и театральные, и танцевальные, и изо классы. “Лав Стрит” разместился в главном зале, над которым и была галерея.
Оказалась я на ”Лав Стрит” как художник и поэт, почти нечаянно. Встретила Ивана Шизофреника и Виталия Сивакова, он же Вит. Они шли по Чистопрудному и явно не в “Современник” (или “Чпок”, на сленге). Оба, Иван и Вит, живы и сейчас. Не знаю, чем кто из них занимается, но моя благодарность им безмерна. Пусть им обоим не близки были ни мои стихи, ни мои рисунки, они делились тем, чего у самих почти не было – возможностью контакта с аудиторией.
Если Ивана я знала хорошо и доверяла его вкусу, то Вит для меня был человек новый. Его невероятная активность и чисто московская легкость меня смущали. А вот туда зайдем, там салон. И точно: какие-то Даша с Машей в районе Яузских Ворот действительно держали творческий салон для таких неприкаянных личностей как мы, но и не только для нас. Я в этом салоне почитала стихотворения и даже спела песенку “Дяди Го” под ненавязчивый аккомпанемент местного музыканта, но даже меня мое выступление не впечатлило. Понравилось само помещение: старая квартира с бесконечными потолками, уже тронутая тлением и сырая во всех углах.
Вит был длинный, белокурый, жил в районе Сухаревки в квартире, каких, я думала, уже в Москве нет. Кур под окнами только не хватало. Он бредил серьезным изданием, да и мы с Максом бредили им же, и давно. Нам всем: Ивану, Виту, мне, Арси, покойному поэту Яну Страуту, – казалось, что вот-вот, и с нами случится калифорнийская сказка в декорациях дягилевского балета. Надменные вершители судеб культуры оценят нашу гениальность и мы засияем ярче телевизора, мы станем популярны, как битлы. Вит и в конце девяностых ценил амбициозность, но по мне так в то время амбициозность стоила очень дешево. Потому что покупали в основном жадные задницы, а не амбиции.
Я читала на “Лав Стрит” в засушливый жаркий день, в новой юбке. Очень гордилась тем, что на ограниченном пространстве, отгороженном бечевкой, без рамы, вразброс (это концептуально и антибуржуазно) лежат несколько моих работ, нарисованных где-то найденным старым химическим карандашом.
Я любила эти рисунки с включением небольшой доли химической синевы. Одна из работ называлась “Качели”. На одиноком поле одуванчиков росли фатальные качели, на них качалась девочка, спиной к зрителю, а по обе стороны застыли смешные маленькие родители. Девочка летает, родители статичны, одуванчики волнуются. Вторая работа называлась “Поздний ужин”. Круглые часы показывают одиннадцать, за столом сидит семья. Девушка совершенно пьяна или удолбана, родственники пытаются сохранить лицо, но лица их все же недоброжелательные, еще бы. Третья работа называлась “Любовь и голод”. В десятых годах двадцать первого века мне все же удалось отчасти ее воспроизвести. Среднего возраста бодрый мужчина обнимает бледную доходягу, а она возвела глаза к небу. По пространству вокруг них ходят звери и птицы, неплохо изображенные. Что стало с этими работами, не помню, но вероятнее всего при очередном переезде я предала их свалке. Просто выбросила. Деревьям, нарисованным тушью и пером на мелованной бумаге, повезло больше, но тогда я только примеривалась к деревьям.
– В этом субтильном ангелочке скрываются огромные миры! – представил меня Вит. Ангелочек вышел и прочитал “Пляши и пой на середине мира”, “Виселицы плачут” и кое-что из писавшихся тогда “Мистерий”.
Полмира спит, лишь слышится дыханье.
Полмира спит, вселенная растет.
Прислушайся, как вместе с ней – мы сами.
Иван Шизофреник, в отличие от Вита, стихов моих не любил. У него странное было видение поэзии. Но на то он и Шизофреник. Я охотно приезжала к нему в гости на Кантемировскую, выслушивала телеги в стиле смягченного волосатого гуру. Мы все тогда хотели опираться на кого-то, походить, прочувствовать чужое, чтобы узнать свое. Не самый интересный путь, но я тоже этим увлекалась. Моя Ирландия, Англия и Китай были чужой шкурой.
“Русскую мысль” с тремя моими стихотворениями я купила аккуратно в октябре, в дни переворота, на лотке на Пушкинской, в переходе. И это была небольшая, но явная командная победа. Несмотря на то, что видение литературы глазами Дмитрия Кузьмина мне близко не было, в “Вавилоне” для меня местечко нашлось, и я довольно долго была им довольна.
Но вернусь к событиям в ЦРДИ весной 1994 года.
Люди московского подполья восьмидесятых, часть из них были уже мэтрами, сидели в зале и смотрели на молодое поколение почти ласково. Евгений Бунимович сидел рядом со славистом Джоном Хаем. Они переговаривались. Серьезное лицо Марка Шатуновского скрывало ироничную усмешку. Темные глаза Арабова выражали космическую печаль. Пригов, вероятно, тоже был, но концептуально.
Как оказалось, презентация второго номера альманаха “Вавилон” проходит в рамках фестиваля свободного стиха. Не помню, как, ДК меня поймал и с хорошо скрытым раздражением, с интонацией Штирлица, сказал:
– Ты в курсе, что ты завтра читаешь?
Это завтра для меня было рабочим днем. Тогда я покупала газеты, по десять рублей за штуку, и продавала по сто рублей в электричке. Газета называлась “Дело”. Редакция была на Пушкинской, тираж я забирала на улице Радио. Затем ехала на Курский вокзал и довольно ловко его реализовывала. Однако сумка была тяжелая, так что больше ста штук я редко брала. Продавец из меня никакущий, но народу нравилась смешная фигурка. В газете было много спорта и программа телевидения. Так что мне предстояло продать тираж и потом ехать в ЦДРИ. Что я и сделала. Читала я уже в положенное время, то есть – среди внеконкурсных, и, кажется, хуже, чем накануне. Но все же эффектно.
В кулуарах познакомилась лично с Евгением Бунимовичем, который на мою задиристость ответил приветливо. И произошла еще одна встреча, которая будет иметь долгие последствия. Ко мне подошел манерный и стройный молодой человек с вьющимися волосами. Глаза под довольно сильными очками у него слегка косили. Звали его Дмитрий Воденников. Он делал передачу о молодых поэтах. На эту роль я совершенно не подходила. Однако бойко наговорила ему о проклятых поэтах, которых тогда читала запоем. Я вообще смотрелась уверенно и респектабельно, в танцевальных сапогах с Тишинки. Что потом стало с этим материалом, не знаю, но Дмитрий как-то внимательно слушал, что мне понравилось. В 1995 его стихи “Сны Пелагии Иванны” опубликует “Знамя”, и это будет еще одна командная победа. А пока Дмитрий работал журналистом, писал свой “Репейник”, который уже готов был взорваться.
Воденников неуловимо напоминал ДК, как бы им обоим это не было неприятно. Но кто чье альтер-эго, неизвестно. Контакт их был дипломатический: они, кажется, не дружили. ДК, при сильном темпераменте чистого холерика, был сдержан. Воденников был скорее сангвиник, склонный к провокации. ДК и Воденников. Это было противостояние воли и провокации.
Лето 1994 года было наполнено новыми встречами, людьми и литературными впечатлениями. Новый “Лав Стрит” проходил снова в Детском Эстетическом Центре. Несколько дней довольно веселой неразберихи. Но в эти дни я познакомилась с поэтом Алексеем Корецким, которого считаю и сейчас одним из самых замечательных в девяностые. “Кроссворды железнодорожных узлов” и “сердце, которое зло/на все, что чревато опасностью ранней любви” меня сразу покорили и воодушевили. Разговорились мы во дворе Центра. Алексей оказался невысоким, изящным и золотоголовым как мальчик-звезда. Он обожал астрономию. У него уже был некоторый вес в поэтической среде. ДК его недолюбливал, впрочем, взаимно. У Корецкого редкое качество сочувствия к людям, которое скрывается за мастерской маской холодного цинизма. Он рыцарь и поэт, со всеми недостатками рыцаря и поэта. Разве что не пьянствовал, а предпочитал эксперименты с колесами. Кроме поэзии, Алексей знал биологию так, что мне показалось: он знает о живом мире почти все. Из своих знакомых он особенно выделял тех, кого называл “биофилы”. То есть, людей, помешанных, как и он, на живой природе.
В ту же встречу я познакомилась с ныне покойным поэтом Яном Страутом. Страут по-латвийски это родник, ручей, как объяснил Ян. Ян был женат, семейная жизнь проходила у него как-то странно, хотя жена была красавица. Ян был очень высок, длинноволос и обладал улыбкой диснеевского утенка: лихой и смешной одновременно. “И булкой той, за три копейки, закусывать капель”. Стихи Яна мне показались приятными, со своим голосом. И Корецкий, и Страут обожали стихи и прозу Бориса Поплавского, которого только начали переиздавать, и мне пришлось прочитать и стихи, и “Черную мадонну”. Удивительно как популярна была словесная мебель модерна в то время. Тоска, наркотики, наркотики, тоска. В новых условиях наркотики были доступны только элите, и Ян пил алкоголь, а зарабатывал он неплохо. А тоска была довольно солнечная, особенно когда все вместе, в уютном месте, с алкоголем – и читают стихи.
Корецкий приятельствовал с критиком довольно сурового вида, Кириллом Анкудиновым. Кирилл не боялся быть нелепым, говорил, что думал и как видел – по делу, без лишних понтов. Но порой наивно и трогательно, что не могло не вызвать смех. Я состояла по большей части из понтов в то время, а тщательность и доверчивость Кирилла не ценила.
Писалось мне тогда худо. Как-то рублено, просто. “Хроники ухода на бумагу”. Время для меня было подрегистровое.
Продолжение следует…
