-10 °С
Облачно
Все новости
ЛИТЕРАТУРА
30 Июня 2020, 15:19
Костер неистовой любви
О времени своего рождения она напоминает собственными стихами: Красною кистьюРябина зажглась.Падали листья.Я родилась.
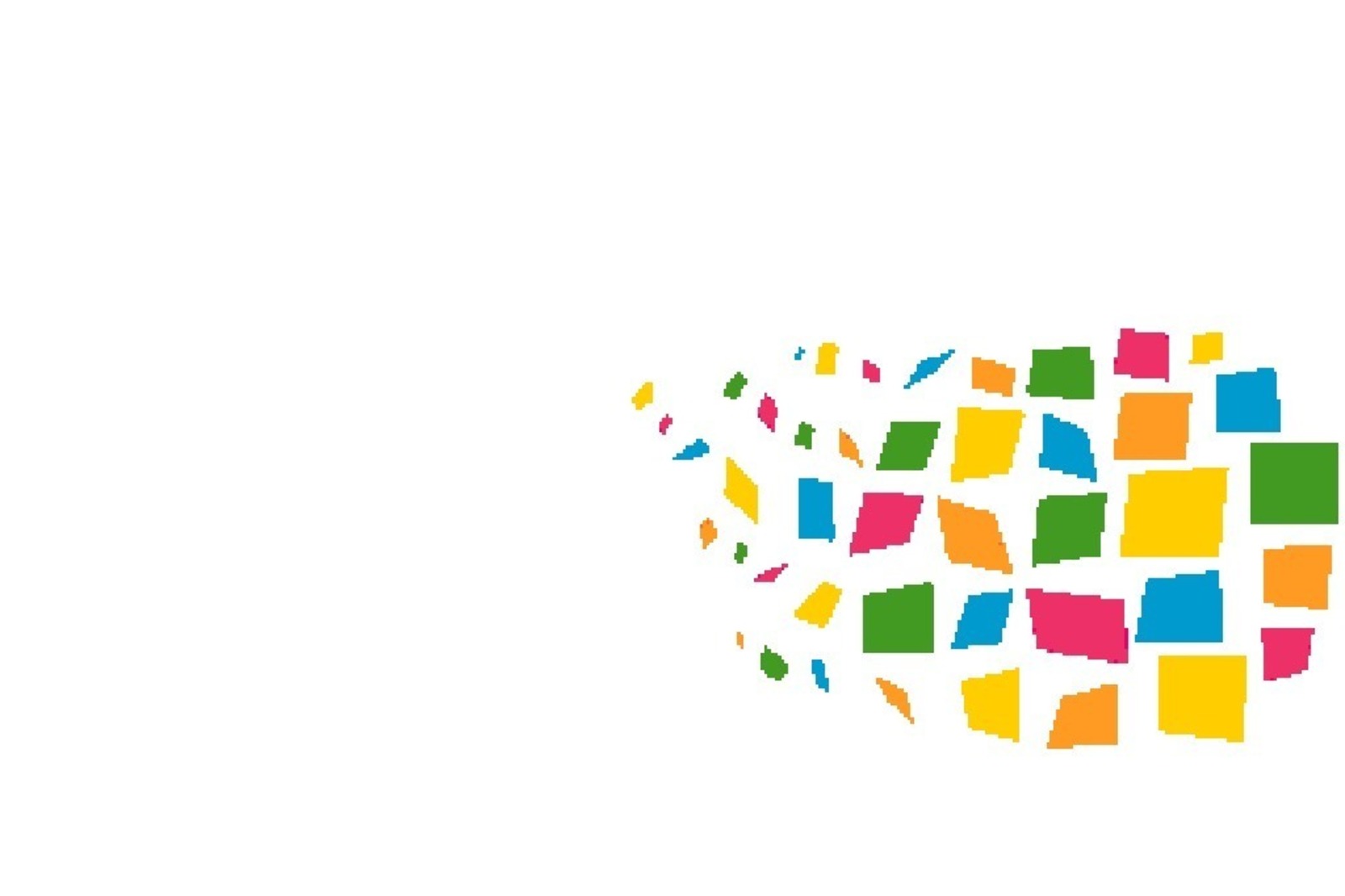
Марина Цветаева появилась на свет в Москве 26 сентября (9 октября) 1892 года. В доме, где господствовали два лейтмотива, музыка и музей, зазвучал еще один – поэтический голос, вписавшийся в гармонию семейного трио. Стихи Марины – это тайна, это лабиринты хрупкой, романтичной души, которую мучили внутренние демоны, когда в каждом повороте страстей формировалось одно из самых ярких поэтических дарований ХХ столетия. Лондонская пресса отмечала в Цветаевой «поэта, чье безграничное воображение вмещает в себя правду всех человеческих эмоций».
Вся беда этой женщины заключалась в том, что она не умела радоваться любви. Она умела только страдать. Без горя, без боли, без разорванного в клочки сердца жизнь ей была не мила. Без слез, без отчаяния она не умела и не хотела жить. Сколько Марина себя помнила, она всегда мечтала о смерти, – не только в самые мучительные, но и в самые счастливые минуты жизни. И кто бы мог поверить, что в день семнадцатилетия она напишет такие стихи-молитву:
Христос и Бог! Я жажду чуда
Теперь, сейчас, в начале дня!
О, дай мне умереть, покуда
Вся жизнь как книга для меня.
Люблю и крест, и шелк, и краски,
Моя душа мгновений след…
Ты дал мне детство – лучше сказки,
И дай мне смерть – в семнадцать лет!
Да и в дневнике ее появилась аналогичная мысль: «Я, конечно, кончу самоубийством, ибо все мое желание любви – желание смерти».
Странная она была девочка, что и говорить… Одноклассницы-гимназистки втихомолку посмеивались над Мариной. Она постоянно читала или что-то писала на уроках, явно безразличная ко всему, что происходит в классе. Никто, кроме сестры Аси, не знал, что она в это время готовила к печати свою первую, основанную на страстном духовном мире книгу стихов, которую назовет «Вечерний альбом».
Первым, кто заметил «эту очень юную и неопытную книгу», был Макс Волошин, писавший, что «ее нужно читать подряд, как дневник, и тогда каждая строчка будет понятна и уместна». «Вся на грани последних дней детства и первой юности», эта книга увлекла и поразила крымского поэта: «“Невзрослый стих” М. Цветаевой, иногда неуверенный в себе и ломающийся, как детский голос, умеет передать оттенки, недоступные стиху более взрослому». Не удержались от рецензий и другие мэтры поэзии – Валерий Брюсов и Николай Гумилев.
РОМАНТИЧЕСКИЙ МИР ИЛЛЮЗИЙ
Откуда же эти выдуманные любови и безумные страсти девочки-семиклассницы? Скорее всего, от недостатка воспитания со стороны родителей. В творческой семье Цветаевых все были заняты собой, дети же были «горькой прозой» жизни. Отец Марины, человек ученый, образованный, много путешествовал. Привозил из своих странствий разные редкостные экспонаты для создаваемого им в Москве Музея изящных искусств и на дочерей своих особенно много внимания не обращал. Не столь оттого, что был очень занят, а оттого, что они были рождены его второй женой, а не первой. Не той, которую он безумно любил всю жизнь и даже после ее смерти, заставляя мучиться и ревновать к прошлому несчастную Марию Александровну. В их доме, полном музыки и пения, он знал лишь одну мелодию – «наследие первой жены», чья тень присутствовала всегда. Так что жизни родителей текли параллельно, не пересекаясь. Дочь Марины, Ариадна, впоследствии назовет этот брак «союзом одиночества».
…Как-то раз Иван Владимирович вошел в комнату своей юной дочери и увидел, что в киоте над письменным столом нет иконы, а находится там портрет ее кумира Наполеона. Всегда мягкий и добрый отец потерял голову от злости и попытался сорвать портрет со стены. Что тут было! Зеленые глаза Марины побелели от безумной ярости. Не сказав ни слова, она схватила свечу и поднесла кончик пламени к своим волосам. И тогда отец понял страшную истину, с ужасом прозрел душу своей дочери: ни жизнь, ни смерть – ничто для нее не значат. Только любовь. Именно любовь с ее волшебной магией всегда была необходимым материалом для поэтических откровений. Она жила в мире иллюзий и воспринимала только театр теней, созданный ее воображением.
5 мая 1911 года в Коктебеле произошло главное чудо жизни восемнадцатилетней Марины – встреча с Сергеем Эфроном. Молодой человек был стройным темноволосым красавцем с большими чувственными зеленовато-серыми глазами. В это нежное совершенство она влюбилась с первого взгляда.
Есть такие голоса,
Что смолкаешь, им не вторя,
Что предвидишь чудеса.
Есть огромные глаза
Цвета моря.
Вашего полка – драгун,
Декабристы и версальцы!
И не знаешь – так он юн –
Кисти, шпаги или струн
Просят пальцы.
Откровенная и страстная в стихах, эта «блондинка с папироскою, в зеленом» (Игорь Северянин) в жизни оставалась загадкой – она никого не впускала в покои своей души. Те, кому довелось бывать в обществе Марины Ивановны, вспоминают, что она никогда не смотрела в глаза собеседнику: ее взгляд постоянно блуждал где-то на кончике папиросы, на огоньке спички… Присутствуя, она всегда отсутствовала. Никогда не была рядом, всегда – там, в мире, скрытом за ее полуопущенными ресницами.
Компенсируя пустоту эмоциональной жизни, одаренная пианистка, Мария Александровна обращалась к романтической музыке Грига, Бетховена, Шопена… Марине не исполнилось и пяти лет, когда началось ее суровое обучение. Этому ребенку приходилось играть на рояле по четыре часа в день. Сестры вспоминали: «Мама залила нас музыкой, залила всей горечью своего несбывшегося призвания, своей несбывшейся жизни…». Но у Марины не было «музыкального рвения» стать пианисткой, ей больше нравилось играть со звуками букв. Тем не менее звуки музыки, сам инструмент – его клавиши и педали – привлекали ее в детстве. Напряженность материнской натуры, «мятеж ее души, страсть и тоска передались дочери и стали криком внутри нее». И хотя после смерти матери она сразу забросит музыку, могучая стихия ее зазвучит в «переплесках» поэтического слова. Послушаем, как звучат мелодические иллюстрации цветаевской поэзии…
Рояль – назойливый инструмент детства. Кажется, он только однажды появляется в строчках Марины. Такая скудость – не отзвук ли музыкального принуждения, которому она, всегда непокорная, вынуждена была покоряться в юные годы? Может быть, ей ближе скрипка? Она бушует в ее стихах этюдом Паганини, скрипкой стонет калитка «возле дома, который пуст», и голосу ее внемлет лишь «одинокий бузинный куст».
Но в партитуре ее жизни ведущая партия всегда принадлежала виолончели. В свою пьесу «Приключение» она хотела ввести скрипку, но легендарный авантюрист Казанова дарит своей возлюбленной виолончель, и автор, соблюдая историческую достоверность, вручает своей героине именно этот инструмент:
Посмотрим, все ли мы с тобою в дружбе,
Виолончель, душа моей души?
Звуковые нюансы ее поэзии – от органа до гитары. Еще в юности Марина готова была «за всех страдать под звук органа». Однако она роднит себя и с неразлучной спутницей русской поэзии, инструментом, далеким от органной мощи: «Моя божественная лира с твоей гитарою – сестра».
Нам дар один на долю выпал:
Кружить по душам, как метель.
– Грабительница душ! – Сей титул
И мне опущен в колыбель!
Но вот в поэме-сказке «Царь-девица» зазвучали гусли, и под их аккомпанемент разливаются песни музыкального фольклора:
Черным словом, буйным скоком
Не грешил я на пиру.
На крыльце своем высоком
Дай ступеньку гусляру!
«Крысолов» – поэма, далекая от фольклорной «Царь-девицы», но героем снова выбран музыкант. Гусляра сменил флейтист. Флейтовые блики появлялись еще в уютной лирике шестнадцатого года: «Я бы хотела жить с вами в маленьком городе…». Через два года поэтесса, пусть не совсем ясно, но уже различает даль своей поэмы:
Я полюбила:
Мутную полночь,
Льстивую флейту,
Праздные мысли.
А еще через семь лет флейта станет лейтмотивом ее «Крысолова», в оценке Бориса Пастернака, «этой благороднейшей формы зауми, той именно, которая заключена в поэзии от века».
Ти – ри – ли,
По рассадам германской земли,
Ти – ри – рам,
По ее городам.
– Красотой ни один не оставлен –
Прохожу,
Госпожу свою – Музыку – славлю.
Марина не сомневалась, что ее стихам настанет время: «Господи, как меня будут читать когда-нибудь… лет через сто!». Но она не угадала своего будущего – оно оказалось гораздо ближе.
Музыкальное «былое» продолжилось в настоящем: в фильмах Эльдара Рязанова и в романсах петербургского мейстерзингера Андрея Петрова. Но сочинения его на стихи Цветаевой – не стилизация, а фантастическое умение породнить старинность и современность и «через сотни разъединяющих лет» помочь им услышать и понять друг друга. Их не спутаешь с романсами прошлого века, в них нет привычно унылых интонаций, потому что они рождены новым временем, оригинальной композиторской мыслью. Итак, фильм «Жестокий романс», возвращающий нам волшебную страну Любви, где все так «дьявольски наоборот»:
Под лаской плюшевого пледа
Вчерашний вызываю сон.
Что это было? – Чья победа? –
Кто побежден?
В том поединке своеволий
Кто, в чьей руке был только мяч?
Чье сердце – Ваше ли, мое ли
Летело вскачь?
Цветаевские строки, объединившись с нотными знаками, звучат музыкальным монологом в исполнении экранной героини, когда она еще надеется на счастье и свет неискушенной любви разгорается в ней. И хотя в интонациях ее голоса уже мелькнула тень грядущего разочарования, пленительная музыка романса полна тихого упоения и просветленной грусти.
И все-таки – что ж это было?
Чего так хочется и жаль?
Так и не знаю: победила ль?
Побеждена ль?
Не менее любимым стал еще один хит Рязанова – «Ирония судьбы, или С легким паром!». И вновь романс Андрея Петрова, навеянный мелодией нежных слов, стал той музыкальной средой, что помогла режиссеру создать поэтическую атмосферу фильма:
Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
…В конце своей жизни гениальный Шостакович уходит в сторону самых интимных и откровенных звучаний, в сторону все большей прозрачности гармонического языка. Обратившись к поэтической лирике Серебряного века, он создает вокальный цикл «Шесть стихотворений Марины Цветаевой» для контральто и фортепиано. Камерный дуэт открыл слушателю красоту, строгость и естественную простоту музыки и слова:
Откуда такая нежность?
Не первые – эти кудри
Разглаживаю, и губы
Знавала – темней твоих.
«Я ОБРАЩАЮСЬ С ПРОСЬБОЙ О ЛЮБВИ»
Когда-то Марина назвала свои любимые вещи в мире: музыка, природа, стихи, одиночество. Теперь с ней осталось только одиночество. В какой-то момент отчаяния она вдруг осознала: все, что было от нее нужно, уже написано. Вот и разочлась сама с собой, поняв, что жить ей больше незачем. Кончился божественный завод, отзвучала нежная мелодия, отпылал неистовый костер любви…
И все-таки она мучилась мыслью: неужели такое возможно, неужели «настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли?».
Застынет все, что пело и боролось,
Сияло и рвалось,
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.
И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет все – как будто бы под небом
И не было меня.
«Такая живая, и настоящая», она любила на этой «ласковой земле виолончель, и кавалькады в чаще, и колокол в селе».
Только вот в далекой от Москвы Елабуге так и не прозвонил по ней этот колокол… В предсмертной исповеди читателю открывается ее тонкая, мятежная душа, молящая о прощении и любви:
К вам всем – что мне, ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои?! –
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.
Ольга КУРГАНСКАЯ
Выбор редакции
Новости партнеров
