-2 °С
Снег
Все новости
ЛИТЕРАТУРА
30 Апреля 2020, 17:22
Невесомая словесная ткань
Из статей и отзывов о поэзии Александра Радашкевича Наталья Горбаневская: Чем меня при первом же чтении, чуть не пять лет назад, поразили стихи Александра Радашкевича, – это их мелодическим своеобразием. По шпалере русского стиха пустило росток и развязало завязь в разветвление «зерно иной земли». Смещая границы стихоразделов, упрятывая рифмы в разные места строки, применяя несовпадение синтаксической и ритмической паузы во много раз чаще, чем это принято как выделяющий прием, поэт создает не верлибр, но «русский верлибр» – штука, мало кому удававшаяся.
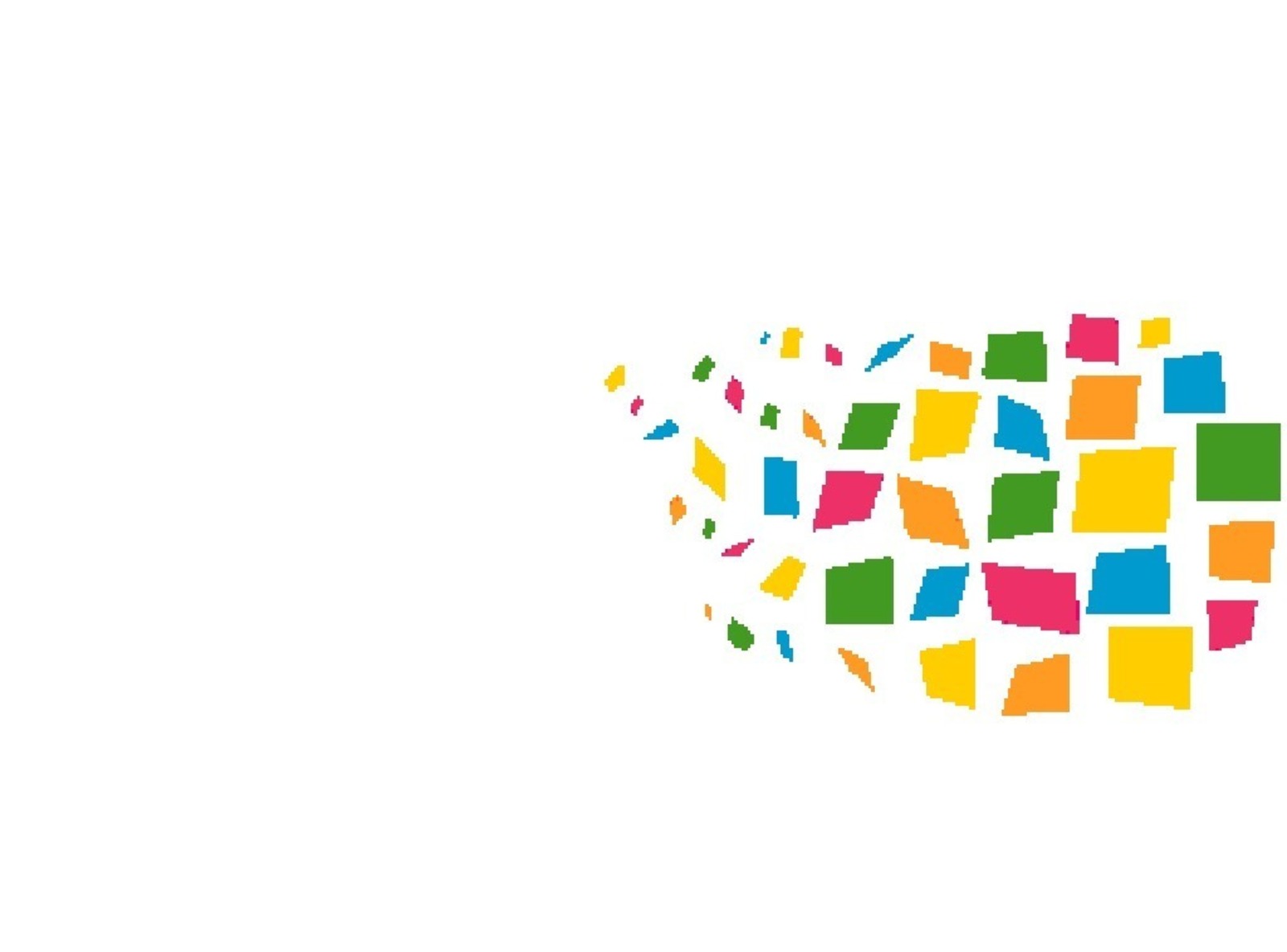
В зрелых стихах Радашкевича, словно лейтмотив, нередко встречаются два слова рядом: ветреность и верность. Они имеют не одно значение, но, в частности, их можно истолковать как верность поэта его видению, почти миражу России и ветреность, мимолетность, воздушность самого видения, уносимого ветром, но верно и неизменно возвращающегося.
Евгений Евтушенко: Автор играет самоцветным русским языком с наслаждением, и оно передается читателям («Строфы века»).
Галина Погожева: Цитировать его – дело более чем неблагодарное: немыслимое, по сути, дело – всё равно что выдёргивать нитки из старинного гобелена, которые срослись в одну живую ткань. Недаром он назвал свою первую книгу «Шпалера»: он владеет этим секретом необычайной тонкости работы минувших веков, когда на один такой ковёр уходила целая жизнь художника, а может быть, и не одна. Любая деталь под увеличительным стеклом являет ещё одну глубину, ещё оттенки. В этой многослойной сути чуть ли не бесконечность.
Серым солдатским глазом, подмечающим тончайшие оттенки, малейшие черты, он смотрит в суть явления, в самую сердцевинку. И этот огромный путь: провинция, где Ленинград казался мечтой, и вот мечта исполнена, и парки – и царскосельский, и павловский, и петергофский, где волны подкатывают под Монплезир, – и дальше, по воле волн: самодовольная Америка, жующая свой неперевариваемый и непереводимый chewingum, и Франция, прекрасная страна, так мало чтящая своих поэтов и королей, где в двух шагах от площади, где вечерами пугает призрак гильотины, я встречу его в доме Великого Князя – и это тоже годы назад, «когда мы только обвыкались с отвычкой жить».
Аркадий Илин: Радашкевич умеет не только смотреть в прошлое (что для художника вообще и для поэта в частности вещь вполне естественная), но умеет передать и ответный взгляд из глубин минувшего на нас.
Бахыт Кенжеев: Читая Радашкевича, вначале – радостно замираешь от пронзительного и трогательного мастерства, и только потом с удивлением отмечаешь – а ведь рифмы-то – нетути! Да и с размером некие нелады! И слава Богу. Я рад приветствовать едва ли не единственного русского поэта, которому удалось отказаться от классических оков – но сохранить и приумножить лирическую страсть.
Я обожаю его ранние стихи о восемнадцатом веке. Сколько за ними кропотливых изысканий в архивах и мемуарах, какое заразительное ощущение тогдашнего русского языка, с которого только снимали загаженные пеленки! Какое могучее – даже в контексте других стихов Радашкевича – чувство цельности, эпичности бытия! Какая жалость к безвозвратному, пускай и приправленная добродушной иронической гримасой! От таких стихов любой может стать монархистом. Но это было давно, юношеское восхищение прошлыми веками миновало. Сегодня поэт сосредоточен, тверд, ясен, трагичен, неизменно трезв. Губы его застыли в улыбке каменного гостя.
Великолепна наблюдательность поэта. Его стихи об иных местах и иных временах полны убедительных деталей, которые складываются не просто в зарисовку, но в объемную модель мироздания.
Данила Давыдов: В стихотворениях Радашкевича анжамбеман становится одним из основных приёмов: поэтическое сообщение, подчас нарративное или риторическое, оказывается внутренне расчленённым, что создаёт особую форму поэтического остранения сказанного.
Равиль Бухараев: Прочел вчера твою книгу – изумительно трепетно и сильно, спасибо! Хочу написать о ней – вот ужо найду несколько спокойного времени. Ты как поэт вызываешь массу не только художественных переживаний и чувств шестого уровня, но и концептуальных мыслей, посему дело это не простое, но крайне вдохновляющее.
Помню о тебе и твоих стихах. На самом деле я все время порываюсь написать, вернее, изложить на бумаге то, что у меня связано с твоими стихами. И все время какое-то опасение, что скажу не то и не так, как они этого заслуживают. Дело все в том, что ты поэт боговдохновенный, слушающий и слышащий, и столь акварельно-тончайший по слову и чувству, что надо быть внутри твоих стихов и в полном покое, чтобы правдиво писать о них. Надо быть как бы стоячими часами, чтобы точно угадать Твое Время. Вот и жду такого состояния уже много месяцев, надеясь, что дождусь и у меня получится написать не просто рецензию на книгу, а письмена о тебе, ибо этого она заслуживает, твоя поэзия, запечатленности в письменах, а не просто текучки литпроцесса.
Лидия Григорьева: Может быть, в этом и секрет его, кажущегося равнодушным и бесстрастным, чтения, что он уже все сказал, все вплёл в невесомую словесную ткань. Многие его стихи – это легчайшие натуральные шелка ручной работы. Они для знатоков. Для любителей утонченных, изысканнейших наслаждений. Эти кружева нельзя тянуть за словесную нитку – могут распуститься. Их нужно «носить», ими можно любоваться, ими нужно украшать наш неласковый, потрепанный житейскими бурями и непогодами мир.
На мой взгляд, Александр Радашкевич – прямой наследник нежной живописи Сомова и Бенуа. Жанры «Мира искусства»: буколики, пастели и пасторали плюс исторические полотна русского классицизма, почва, из которой произросли многие его, очень инакие, стихи. При этом жар его поэтической страсти спрятан глубоко под красиво расшитыми, орнаментально изысканными одеждами. Но порой прожигает их…
Александр Мельник: Александр Радашкевич остаётся верным выработанному им индивидуальному стилю «интуитивного верлибра», более известному в поэтических кругах как «стиль Радашкевича». Поэт, шестым чувством избегающий «укачивания-убаюкивания «правильного» размера, которое уже никто не воспринимает, в которое невозможно вместить нашу бесформенную эпоху», в одном из стихотворений («Про стихи») иронизирует над тем, что «люди любят стихи, / похожие на себя, содержащие полезные / советы и практичные утешения / в бытовой любви и / дрессированной / грусти…». Просодия Радашкевича основана на продуманной разбивке стихотворного текста частыми анжамбеманами на строки-пазлы, выстраивающие причудливую мозаику стихотворения таким образом, чтобы при чтении внимание обращалось не на форму и ожидаемые рифмы (которых в верлибрах автора практически нет либо же они сугубо внутренние), а на содержание текста. Таким образом, читатель остаётся в постоянном напряжении, которое компенсируется удовольствием от осязаемого контакта с чистыми и музыкальными словами автора. К такому неторопливому погружению в иной поэтический мир в наш век скоростей готовы далеко не все любители поэзии, поэтому «ажурный» «стиль Радашкевича» остаётся довольно элитарным явлением русской словесности. Сам поэт подчёркивает сходство своей манеры версификации с чисто интуитивным написанием музыки композитором. В стихотворении «По прочтении дневников», посвящённом Ю. Кублановскому, он не без гордости пишет о своей непохожести на поэтов мейнстрима: «…Не надо рыпаться: мы не / в формате. Мы не в формате, / слава Богу…».
Продолжение следует…
Выбор редакции
КОЛУМНИСТЫ
1 Июня 2025, 11:00
Современный сэсен Башкортостана или О вопросах духовной, литературной и музыкальной иерархии в системе тенгрианства
КОЛУМНИСТЫ
21 Февраля 2025, 14:00
От первого лица
КОЛУМНИСТЫ
28 Января 2025, 10:00
Надо ли троллить писателя?
КОЛУМНИСТЫ
7 Января 2025, 11:08
150 НОМЕРОВ…
Новости партнеров
