-5 °С
Облачно
Все новости
ВОЯЖ
7 Сентября 2019, 20:21
Осколки Берлина. Часть первая
Екатерина САДУР, Берлин Париж и Берлин – два исконно русских города. Я не говорю о городах, как о физическом воплощении географии – местах, пространство которых чётко очерчено своей особой кипящей жизнью и которые создают свою особую реальность; я говорю о неких метафизических городах, куда стекаются все узкие дороги, а вытекают в ответ целые пути; о двух мифах, корнями проросших в русскую культуру, о мифе Парижа и мифе Берлина...
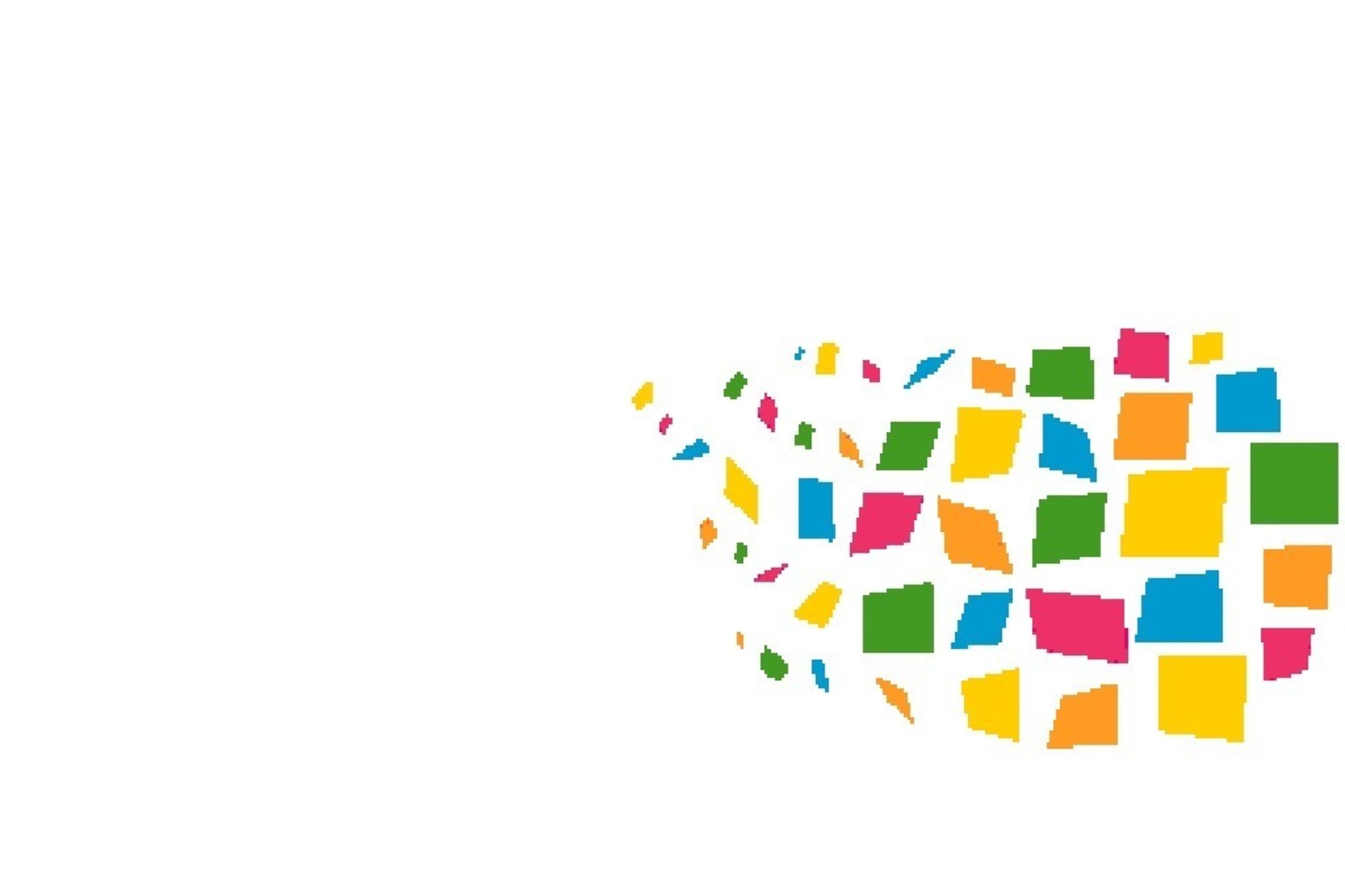
* * *
Год и город начинаются с зимы.
А мы приехали в Берлин в конце лета, в августе... Стояла жара...
И поскольку почти все вокруг нас говорили по-русски, то особой разницы между увядающим летом Москвы и бурно цветущим летом Пренцлауэрберга (район в восточной части Берлина) я не ощутила. Мы как бы попали в фильм, переведённый на русский. Разница была лишь в скорости переживаний, чувств и изображении. Изображение было цветным, но не яростных цветов, а приглушённых: серая стена дома на Шведтер-штрассе, в голубоватых и стальных всполохах неба, преломившихся в оконных стёклах, сквозь которые видны глубины комнат, распахнутые двери в череду соседних пространств и изгибы коридоров, и люди, сидящие вокруг столов под плетёными абажурами, так, что резные тени падают на их лица, делая их невыразимо прекрасными. О чём они говорят? Что чувствуют? Мы не слышим... Мы просто проходим мимо... На первых этажах в Берлине почти никогда нет штор, но люди первых этажей, свободно передвигаясь по сквозным комнатам и жизням, уже давно научились ускользать от чужих взглядов... Вот кто-то подходит к окнам и распахивает их в вечернюю жару, и вырываются обрывки разговоров: «...Там принесли ещё вина...» – «...Красного?» – «...А как ты хотела? Пришли ещё трое и с ними – певица...» – «Та француженка?» – «...Нет, другая... Из русских... Они – проездом...» Потом двое – девушка и молодой мужчина – садятся на подоконник, перекинув ноги из окна на улицу, и курят одну сигарету на двоих... И оба – босиком...
Почему-то я понимаю все эти осколки немецкой речи, но пока не могу сложить их в мозаику города. Пока она рассыпается.
Ещё ниже, в полуподвале, находится маленький бар, из которого каждое утро хозяин выносит на улицу три круглых столика и скамейки с цветными подушками. На круглых столиках – круглые кружки из-под пива, в одной из кружек – вода и тугой букетик астр на укороченных стеблях. Два клерка в красивых костюмах и белых рубашках, из-под воротничков которых только что, змеясь и извиваясь, выскользнули галстуки, сидят друг против друга, но их речь я понимаю с трудом, да она почти и не долетает до меня. Один из них собирается в Непал, другой жалуется, что Фридрих-штрассе перерыли так, что не проехать даже на велосипеде. И здесь же, у входа в бар, пристёгнутые на замок, длинной вереницей стоят велосипеды. Только что два этих клерка, приклеив неподвижные улыбки, расторопно обслуживали посетителей в Шпаркассе (Немецкий банк, дословный перевод – «Сберегательная касса»), а сейчас вот ожили под вечер и засобирались в Непал. Почему-то вспомнился «Путеводитель по Берлину» Набокова, когда двое точно так же, на углу, в пивной, говорят, что Берлин перерыт и повсюду видны трубы, обсуждают трамваи и конку. Конка исчезла с улиц, превратившись в разрисованные сиденья Рождественской карусели, а трамваи и трубы – городские сосуды крови и воды, так и остались навсегда... Сгущаются летние сумерки, на столиках красновато и робко тлеют свечи... Кто-то смеётся в распахнутом высоком окне, коротко пропела певица. Она ведь проездом, совсем ненадолго...
Потом я вижу, как оба клерка в своих строгих костюмах усаживаются на велосипеды, зажимают багажником кожаные портфельчики, раздутые от банковских бумаг и едут в летнюю ночь, легко прокручивая педали. По Каштаниеналлее проходят ночные трамваи – два сцепленных вагона, освещённых изнутри... Пустых вагона... Иногда у окна сидит пассажир – сутулый старик в очках, читающий газету, выходит на остановке, на несколько мгновений задерживается в свете фонаря, чтобы дочитать страницу, но только одну, а не все подряд, и, шагнув в темноту, исчезает в подъезде дома... И вдруг на улице – островок французской речи – какая-то небрежно-нарядная молодёжь перемещается из одного бара в другой, из одного дома – в соседний... Поравнявшись со мной, говорят громко, но далеко от себя свою речь не отпускают... Из обрывков речи тут же складывается какая-то картинка, в которой – река, мост и ослепительный день, и я тут же вспоминаю одну из короткометражек Годара. Сейчас, спустя столько времени, я не могу понять – видела ли я её или мне её рассказали...
Девушка в чёрно-белом мире раннего Годара пишет два любовных письма двум своим возлюбленным и, конечно же, путает конверты. Письмо, полное нежности и укоров, ревности и невысказанной любви, адресованное одному, кладёт в конверт с именем другого... И лёгкое, с печалью и остроумием, с невидимой и недоказуемой ловушкой в каждом слове, такое вот лёгкое письмецо, но с чужим-пречужим именем кладёт – в чужой конверт... Естественно, они прочли... Естественно, скандал... Естественно, она – в слёзы, и никому ничего не может объяснить! Не удаётся ей ловко вывернуться, солгать, чтобы поверили... Оба возлюбленных в бешенстве, и оба рвут с ней… Она остаётся одна и идёт по мосту... И вы не должны ни на секунду забывать, что это – Франция, Париж, что это – только что поднявшаяся новая волна, и что скорее всего, у девушки – полосатое платье с подкладными юбками и короткая, мальчиковая стрижка... Девушка останавливается на середине моста и смотрит на воду, перегнувшись через перила. Преломившись о поверхность, блики солнца слепят глаза светом и теплом. Вода плещется. Ей радостно. Она смеётся... И ей ничего, совсем ничего не надо...
И, конечно же, я на всю жизнь – эта самая девушка, перегнувшаяся через перила моста, чтобы лучше разглядеть блики солнечных лунок на чёрной или стальной поверхности.
Август в Берлине пылает зноем. Август прощально красив. Каждый район Берлина – это остров в мареве августа со своим законом и выражением улиц. Но перед августом все равны. Все спешат утолиться негой уходящего лета… Так радуйтесь же, жители Веддинга и отдалённого района Марцан, радуйтесь и вы, холодноватые обитатели Ваннзеа, с лёгким недоумением приподнимающие брови, когда вдоль стен или чугунных оград ваших особняков югент-штиля плывёт иностранная речь, и кто-то из туристов вдруг остановится, запрокинув голову, чтобы разглядеть мозаику на самом верхнем, обычно третьем этаже, радуйтесь, и вы, польские гастарбайтеры с красивыми именами – Бенедикт или Бартоломей, вечно мёрзнущие в вечерних сумерках зимы на Подсдамерплатц, а в жару небрежно щеголяющие в цветных уценённых майках «Бенитон», прибывших в Берлин из Китая, и вы, китайские официанты и повара из маленьких изящных ресторанчиков Пренцлауерберга, вы вынесли на улицы раскладные столики под матерчатые навесы, а на спинки стульев повесили красные пледы, потому что разве же можно верить переменчивому теплу, когда вот-вот наступит осень? В сумерках – вы зажигаете свечи на столах, даже если моросит дождь. Вы ставите хризантемы или короткие астры в стеклянные розоватые стаканы… И немцы сидят на стульях и скамейках, и громко пьют пиво, глядя как вы почти незаметно и грациозно, как в полу-прозрачном, призрачном балете, снуёте между столиками с раскалёнными сковородками, на которых в синеватом дыму кальмары и осьминоги свили щупальца в кольца; или просто проходите с круглыми подносами, на которых в литровых и пол-литровых кружках пенится пиво. Так радуйтесь же последнему, уходящему зною…
Короче, прихожу в Шпаркассу снять карманные деньги. «Наличку», как называют их местные эмигранты или ещё хуже «баргельд», мешая русские и немецкие слова, неуклюже лепя из мусора и глины варварское своё наречие на обломках империи. На месте двух весёлых клерков сидит печальная немецкая фрау в удобно вытянутом трикотажном костюме с металлической табличкой на груди «Ульрика Бок». Я объясняю Ульрике Бок, что у меня проблемы с картой. Приклеив улыбку на лицо, она смотрит мой счёт и любезно выдаёт наличные, и замирает с приклеенной улыбкой, глядя на меня. Но я не ухожу. Тогда она громко прощается по-немецки. Но я снова не ухожу. Пытаюсь приклеить такую же улыбку и вспомнить, как зовут хотя бы одного из клерков. «Скажите, фрау Бок, – наконец, говорю я. – Уехал ли тот весёлый парень с велосипедом в Непал? Кажется – Андреас?» Фрау Бок становится жарко. Она краснеет и почему-то кричит: «Здесь никогда не было весёлых парней! И никакого Андреаса, никогда! И я – совсем не понимаю ваш немецкий! И, вообще, – вас волен зи дох гляйх?» А я ничего не хочу ни gleich, ни после… Я просто выхожу на улицу. Сейчас вот-вот настанет осень, но у тебя, Ульрика Бок есть утеплённый трикотажный костюм с большими пузырями на коленках, ты хорошо, ты просто отлично подготовлена к зиме! У тебя есть большая лыжная шапка с распродаж на случай совсем уж холодов. Ты ходишь в банк и смотришь телевизор. Ты покупаешь в Нетто свинину, картошку и морковь и делаешь себе рагу по вечерам, и, в общем-то, ты очень довольна своей жизнью, она вполне неплохо удалась! Но ты печальная, Ульрика. У тебя золотые волосы, как на картинах старинных мастеров. Ты была девочкой и заплетала их в две косички, у тебя был велосипед и маленькая звонкая собачка. Вы жили в ГДРе и летом ездили на остров Узедом, а по выходным на берег Вайссензее. Это же здесь, совсем рядом. Но ты печальная, Ульрика, ты никогда не будешь в Непале, и никогда два весёлых клерка, один из которых, кажется Андреас, не позовут тебя с собой в пивнушку «Август Фенглер» на Люхинер-штрассе или в Беззи на Зенефельдерплатц, а только скажут, приклеив к лицам такие же улыбки из Шпаркассы: «Хорошего вам вечера, фрау Бок!», и ты вдруг поймёшь коротко и мгновенно, что юность и детство прошли также быстро, как берлинское лето. Зачем ты так громко кричишь на весь банк по-немецки?
И, собственно, о лете я всё время забываю сказать, что этот город просто так его не отпускает. Удерживает в плену весь сентябрь и даже первую неделю октября, а дальше счёт идёт на дни – кто кого. Берлин ли в своём имперском великолепии или осень и холода?
Продолжение следует...
Выбор редакции
КОЛУМНИСТЫ
1 Июня 2025, 11:00
Современный сэсен Башкортостана или О вопросах духовной, литературной и музыкальной иерархии в системе тенгрианства
КОЛУМНИСТЫ
21 Февраля 2025, 14:00
От первого лица
КОЛУМНИСТЫ
28 Января 2025, 10:00
Надо ли троллить писателя?
КОЛУМНИСТЫ
7 Января 2025, 11:08
150 НОМЕРОВ…
Новости партнеров
