Художник Нестеров. Часть третья
Очерк
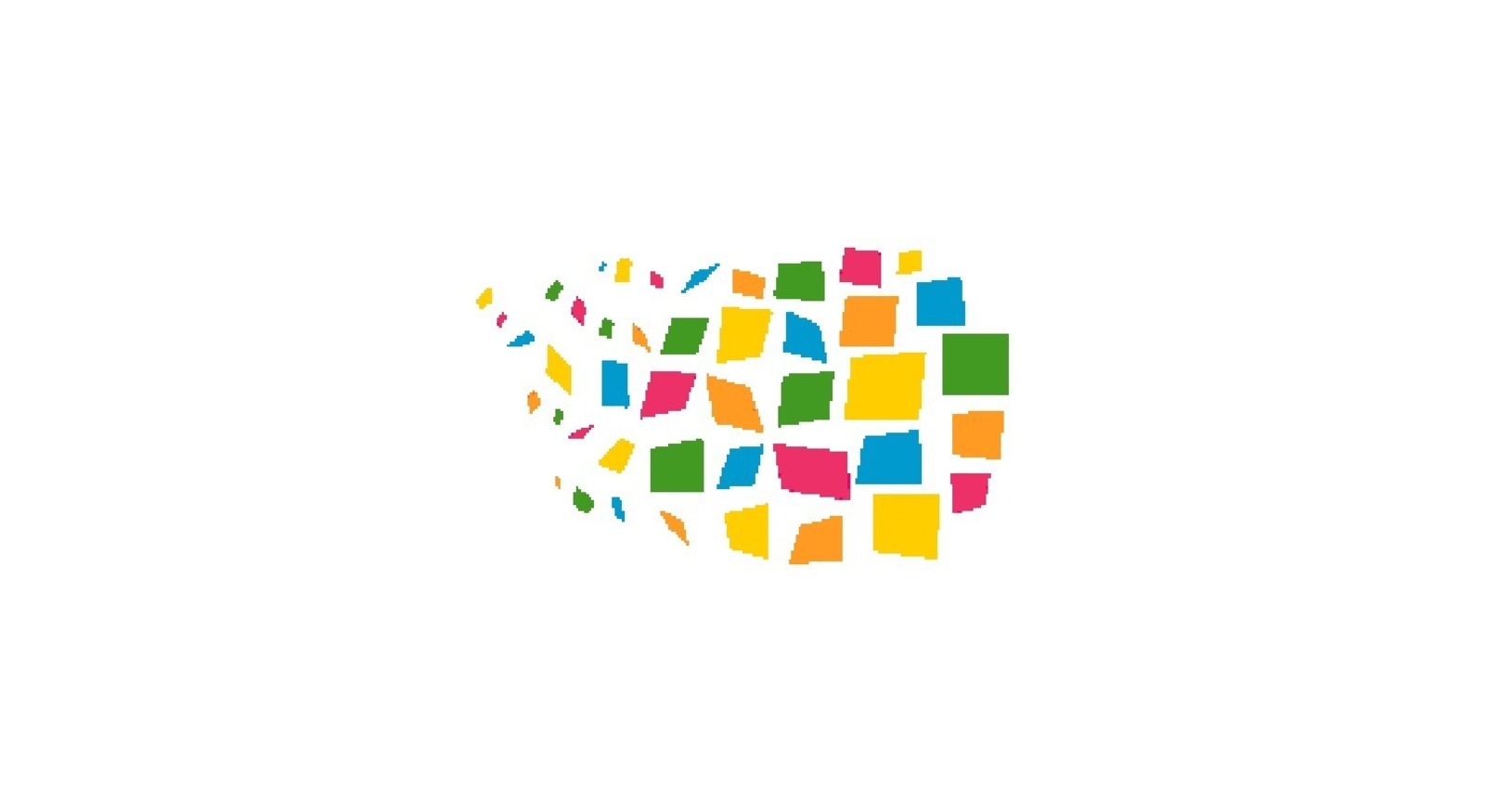
5
Начало занятий в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, куда Михаил Нестеров поступил в 1876 году, совпало с периодом «бури и натиска» передвижничества, движения, противопоставившего себя традициям Петербургской Академии художеств.
Веселые, однако, люди были эти передвижники. Вот названия картин, по которым можно догадаться и о содержании: «Проводы покойника», «Утопленница», «Умирающая», «Жертва фанатизма», «Возвращение с похорон», «Панихида», «Неутешное горе», «Смерть переселенца», «Привал арестантов», «Арест пропагандиста», «В коридоре окружного суда», «Узник», «Осужденный», «Заключенный», «Порка», «Утро стрелецкой казни»…
Чтобы влиться в число «передвижников», живописной техники было мало, а некоторые даже говорили, что в ней не было особой нужды. Хорошим тоном считалось все кругом изобличать, «критически осмыслять», указывать на ошибки, на испорченность нравов, во всем искать «недостаток развития», невежество, неправильное влияние среды. Совершенно несовременным в те годы в столицах считалось иметь веру и идеалы, утверждать своим искусством что-то высокое.
Жанр фельетона главенствовал в живописи. На первом месте стоял курьез, скандальный случай, обличающий анекдот. Московское училище, в котором учился Нестеров, было именно той школой, где передвижники первого поколения воспитывали своих преемников.
Приехавши в Первопрестольную из далекой провинции и оглядевшись, Нестеров первоначально увлекся общим фельетонным духом. Вот сюжеты его первых московских полотен: выпивоха сидит босой на диване под домашним арестом, его сапоги спрятала жена, чтобы тот не убежал в кабак; толстый купец с видом знатока разглядывает картину через бумажный лист, свернутый трубочкой; сценка на улице – зеваки собрались вокруг жертвы уличного движения.
Самый яркий из учителей этого времени – Василий Перов, «поэт скорби». Его влияние первоначально определило отношение Нестерова к основным вопросам искусства. Сам художник подчеркивал, что на него производили впечатление «не столько его, Перова, желчное остроумие, сколько его “думы”». Но пошел бы художник по этой дорожке вслед за Перовым – не было бы Михаила Васильевича Нестерова, а, возможно, возник бы еще один московский фельетонист, зарабатывающий хлеб на злобе, на насмешке, на критике русской жизни.
Для молодого художника важно найти свою большую тему, фактически свое место в живописном искусстве. От жанровых картин Михаил Нестеров переходит к портретной живописи – пишет портреты своей невесты, а затем жены Марии Мартыновской, актрисы М. Заньковецкой, С. Иванова и С. Коровина.
Все чаще обращается он к историческому жанру. Но его ранние исторические композиции мелковаты, в них преобладает стремление реконструировать старинный быт, костюмы, найти яркие типажи. И дипломной работе Нестерова, картине «До государя челобитчики», присущ этот недостаток, вызвавший критику Крамского. «Он… говорил, что сама тема слишком незначительна… что нельзя, читая русскую историю, останавливать свой взгляд на темах малозначимых. Он говорил, что верит, что я найду иной путь, и этот путь будет верный», – вспоминал Нестеров.
Конец 1880-х годов стал переломным в жизни и творчестве. В эти годы Нестеров состоялся как живописец, создатель своей собственной, нестеровской темы, отчетливо звучавшей затем на протяжении нескольких десятилетий и в пейзажах, и в цикле религиозно-исторических картин, и в замечательных портретных работах.
Психологический и творческий переворот, обретение своего живописного почерка оказались связаны с переживанием счастливых и трагических событий – любви, первой и истинной, потрясения от смерти молодой жены.
Юную Марию Ивановну Мартыновскую он встретил на летних каникулах в Уфе. На благотворительной лотерее-аллегри в Ушаковском парке увидел двух незнакомых девушек и с первого же взгляда влюбился в одну из них. Вторая встреча с незнакомкой произошла на улице, когда он ехал верхом. «Вдруг совсем близко увидал мою незнакомку, в том же малороссийском костюме, в той же шляпке, но только под зонтиком… Я решил высмотреть, куда она пойдет… Барышня шла, я подвигался вдали почти шагом. Долго так путешествовали мы, и я заметил, что незнакомка догадалась, что всадник едет не сам по себе, а с какою-то целью, и стала за ним наблюдать в дырочку, что была у нее в зонтике».
На этот сюжет тогда же, в 1883 году, Нестеров сделал рисунок, озаглавленный «Первая встреча». Он овеян теплым юмором. Художник изобразил себя лихо восседающим на коне, рядом заливаются лаем две шавки, а застенчиво-милая незнакомая девушка прикрывается зонтом не столько от солнца, сколько от всадника, чтобы получше рассмотреть его в дырочку.
Это была москвичка Мария Ивановна Мартыновская, ровесница Нестерова, гостившая в Уфе у брата, преподавателя Уфимского землемерного училища. Была она крайне впечатлительна, нервна, по-своему горда, несмотря на простоту и бедность. Первые же дни знакомства усилили чувства молодого художника к ней. Со светлым и теплым чувством вспоминались Нестерову прогулки молодежи за город на берег Белой к Шихан-горе. «Скоро разбились на парочки, по группам. Кузнечики стрекотали, где-то за Белой горели костры у рыбаков, где-то внизу плыли на лодке, пели… Собрались вокруг зажженного большого костра. Кто-то затянул хоровую, все подхватили, и долго в ночной тишине плыли мелодические звуки старой, всем известной песни про Волгу, про широкое раздолье… Этот вечер сильно сблизил нас с Марьей Ивановной. Едва ли он не был решающим в нашей судьбе».
На расставание перед отъездом в Москву Нестеров подарил Марии Мартыновской рисунок, озаглавив его «Вспышка у домашнего очага (сцена из мелкочиновничьей петербургской жизни)». Это эскиз «Домашнего ареста», картины, написанной в том же году, с интерьером родного уфимского дома. Внизу, в углу, надпись чернилами: «Ученик В. Г. Перова Нестеров М. Посвящаю свой первый труд и уменье Марии Мартыновской в память лета 1883 г.».
Через год художник стал называть Марию Мартыновскую своей невестой, но родители Нестерова против их брака. Он уезжает в Петербург зарабатывать звание свободного художника, тяжело там заболевает. Узнав об этом, Мария, несмотря на весеннюю распутицу, на одних лошадях едет из Уфы в Петербург и выхаживает больного.
Венчались без родительского благословения. Через год родилась дочь Ольга, и этот день, по словам Нестерова, стал самым счастливым днем его жизни. Но через сутки после родов Мария Мартыновская умерла.
Художник пытался изжить горе, воскрешая любимые черты на бумаге и холсте. Когда он работал над ее портретами, ему казалось, что она рядом. Долго он писал ее портрет в подвенечном платье, вспоминая, какой цветущей, сияющей внутренним светом она была в день свадьбы. «Любовь к Маше и потеря ее сделали меня художником, вложили в мое художество недостающее содержание и чувство, и живую душу, словом, все то, что позднее ценили и ценят люди в моем искусстве», – говорил Нестеров. В нестеровских иллюстрациях к Пушкину Мария Ивановна становилась то Царицей, то Машей Троекуровой, то барышней-крестьянкой, то Татьяной Лариной. Не расставался он с дорогим образом и расписывая Владимирский собор – лицо покойной жены узнается в ликах Богородицы Марии.
Известно, что Лев Толстой не любил Шекспира. Сохранился экземпляр «Ромео и Джульетты», принадлежавший Толстому. Читая трагедию, Толстой делает многочисленные иронические замечания на полях. Наконец, доходит до места, где Ромео говорит: «Вся философия мира не заменит мне Джульетту». Толстой делает на полях какое-то очередное замечание, затем зачеркивает его. Делает другое, опять зачеркивает. Наконец пишет крупно, по-видимому раздраженно: «очевидно, случайная удача». Трудно спорить с правдой шекспировских строк.
6
Нестеров ищет новый живописный язык. «Христова невеста», картина, написанная вскоре после окончания училища, стала своеобразной прелюдией к новой теме. В этом исповедальном полотне на фоне грустного осеннего пейзажа впервые явилась «нестеровская» девушка, а вместе с нею родилась в русской живописи тема мятущейся души, готовой скрыться от мирских волнений и горестей за стенами раскольничьего скита.
«С этой картины, – писал впоследствии Нестеров, – произошел перелом во мне, появилось то, что позднее развилось в нечто цельное, определенное, давшее мне свое лицо… без “Христовой невесты” не было бы того художника, имя которому Нестеров».
В своих поисках Нестеров не одинок. В середине восьмидесятых годов почти одновременно заявили себя несколько молодых художников высокого дарования. В эти годы написаны «Девочка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем» Валентина Серова, портрет Т. Любатович и «Северная идиллия» Константина Коровина, волжские пейзажи Ильи Левитана, «Девочка на фоне персидского ковра», росписи Кирилловской церкви и эскизы для Владимирского собора в Киеве Михаила Врубеля.
Первым большим полотном, обозначившим Нестерова как самобытного художника, стал «Пустынник», картина, написанная на, казалось бы, традиционную для художников академического и передвижнического направления тему. Однако до Нестерова никто с такой искренностью не поэтизировал человека, отказавшегося от суеты и нашедшего счастье в уединении и тишине природы. Старый монах, просветленный, чистый сердцем, сам – как часть осенней русской природы, стал для художника олицетворением душевного покоя, нравственного равновесия.
Портрет старика-монаха и пейзажные наброски Нестеров писал в Подмосковье с тем, чтобы над самим полотном работать в Уфе. «Надо было приступать к “Пустыннику”, – вспоминал художник. – Я уехал в Уфу с этюдами, холстом и прочим и там скоро начал писать картину. Написал – не понравился пейзаж: не такой был холст. Послал в Москву за новым. Повторил картину быстро. Мой старичок открыл мне какие-то тайны своего жития. Он со мной вел беседы, открывал мне таинственный мир пустынножительства, где он, счастливый и довольный, восхищал меня своею простотой, своей угодностью богу. Тогда он был мне так близок, так любезен. Словом, “Пустынник” был написан, надо было его везти в Москву. В эти месяцы писания картины я пользовался особой любовью и заботами матери и всех домашних. Душа моя продолжала отдыхать».
Современники находили во многих нестеровских героях образы, навеянные русской литературой, – Пименом из пушкинского «Бориса Годунова», «Соборянами» и другими героями, особенно старцем Зосимой из «Братьев Карамазовых» Достоевского. Таким было восприятие нестеровских картин со стороны многознающей публики. Но Нестеров нашел этот человеческий тип в жизни, он написал своего пустынника с отца Гордея, монаха Троице-Сергиевой лавры, привлеченный его открытой улыбкой и светящимися добротой глазами. Новым для русской живописи стал не только образ старца, но и сам пейзаж, лишенный внешних красот, скудный в наготе ранней зимы, но внутренне одухотворенный, поэтичный, с которым бредущего старца связывает внутренний лад.
Современники свидетельствовали: «Трудно даже представить себе то впечатление, которое производила картина на всех! Тогда она производила прямо ошеломляющее действие и одних привела в искреннее негодование, других в полное недоумение и, наконец, третьих в глубокий и нескрываемый восторг. В ней чувствовалось истинное отражение мира».
Полотно «Видение отроку Варфоломею» стало сенсацией 18-й передвижной выставки в Петербурге. Отец художника часто говорил, шутя, что лишь тогда поверит в успех сына, когда его работы будут приобретены самим Павлом Михайловичем Третьяковым, знаменитым ценителем русской живописи, московским коллекционером. Попасть в Третьяковскую галерею в то время значило, возможно, больше, чем академические звания и награды. И вот Третьяков прямо с выставки покупает и «Пустынника», и «Варфоломея»!
Незадолго до открытия выставки перед полотном собрались строгие охранители чистоты передвижнического направления – критик В. Стасов, художник Г. Мясоедов, писатель Д. Григорович и издатель А. Суворин. Все четверо судили картину страшным судом. Все единогласно признали ее вредной.
Центральным пунктом обвинений стало то, что молодой художник привез на выставку живописных полотен не картину, а икону, которой место в церкви, которая может быть интересна лишь для верующих. Особенно нападали на золотой нимб вокруг головы старца. Мясоедов настаивал на том, что нимб с головы надо немедленно закрасить. А особенно возмутило то, что художник не испытывает раскаяния.
Что Нестеров мог ответить на обвинения? Только что он вернулся из Флоренции, Рима, Парижа и Дрездена, где изучал «нелепости». «Видения» с «золотыми кругами» смотрели со старинных фресок Джотто и полотен Карпаччо, они присутствовали на новейших стенописях Пювис де Шаванна и полотнах Бастьен Лепажа. Для передвижников как бы не существовало ни Боттичелли и Высокого Возрождения, ни старых немцев, ни английских прерафаэлитов, не говоря уже об искусстве древнерусских фресок и русской иконописи.
По возвращении из Италии Нестеров поселился в деревне недалеко от Сергиева Посада. Здесь начал работу над полотном.
Образ Сергия был знаком с детства по семейной иконе и лубочной картинке с изображением Сергия-пустынножителя, кормящего хлебом медведя. В схимнике ему виделся не только нравственный подвижник, а еще и народный деятель, «игумен земли русской». Его деяния художник изучал по житиям, по хроникам и летописям. В основу сюжета был положен эпизод из «Жития преподобного Сергия». По легенде, отроку Варфоломею, принявшему впоследствии в монашестве имя Сергия, никак не давалась грамота. Однажды, когда отец послал его искать отбившихся от стада жеребят, под дубом на поле Варфоломею явился святой старец, к которому мальчик обратился с просьбой помочь ему одолеть учение. По преданию, старец, сотворя молитву, подал пастушку частицу просфоры и благословил на изучение грамоты.
Долго художник не мог найти подходящую модель, но однажды встретил на деревенской улице хрупкую девочку с тонким бледным лицом и как бы просвечивающей кожей. В ней он и узнал своего пастушка: «Я заметил девочку, лет десяти, стриженую, с большими широко открытыми голубыми глазами, болезненную. Рот у нее был какой-то скорбный, горячечно дышащий. Я замер, как перед видением. Я действительно нашел то, что грезилось».
Был сделан этюд, потом эскиз красками. Художник снял пустую дачу в деревне и, несмотря на темные осенние дни, начал работать над полотном. «Я полон был своей картиной, – вспоминал Нестеров. – Начались дожди, из дому выходить было неприятно, перед глазами были темные, мокрые кирпичные сараи. И лишь на душе моей тогда было светло и радостно. Питался я скудно. Так я прожил до середины октября. Нарисовал углем картину и за это время успел убедиться, что при такой обстановке, один-одинешенек, с плохим питанием, я долго не выдержу, – и решил спасаться к моим уфимцам. Они рады были повидать меня… и предложили мне все самые заманчивые условия для писания картины: наш зал с большими окнами, абсолютную тишину, спокойствие».
Скатав картину в рулон на длинной скалке, художник уехал в Уфу; в первый раз он возвращался сюда по только что открытой Самаро-Златоустовской железной дороге. Большой зал с окнами на Гостиный двор был превращен в мастерскую.
«Снег в Уфе выпал рано, в начале ноября, свет был прекрасный, и я начал своего “Варфоломея” красками. Полетели дни за днями, – писал позднее художник. – Вставали мы рано, и я после чая, тотчас как рассветет, принимался за картину. Однажды, когда была уже написана верхняя часть пейзажа, я, стоя на подставке, покачнулся и упал, упал прямо на картину! На шум прибежала сестра, а потом и мать. Я поднялся, и все мы увидели, что картина прорвана – большая дыра зияла на небе.
Ахать было бесполезно, надо было действовать. Я тотчас же написал в Москву, прося мне спешно выслать лучшего заграничного холста известной ширины, столько-то. Написал и стал нетерпеливо ждать. Время тянулось необыкновенно медленно. Я хандрил… Однако недели через полторы я получил прекрасный холст, гораздо лучший, чем прорванный. Я ожил, ожили и все мои вокруг меня. Как бы в воздаяние за пережитые волнения, на новом холсте писалось приятней. Он очень мне нравился, и дело быстро двигалось вперед. В те дни я жил исключительно картиной, в ней были все мои помыслы, я как бы перевоплотился в ее героев. В те часы, когда я не писал ее, я не существовал и, кончая писать к сумеркам, не знал, что с собой делать до сна, до завтрашнего утра.
Ходить в гости не хотелось, и лишь изредка я ездил кататься… Кучер старался показать, как резво бегут у него кони, пускал их полной рысью, и я, весь закиданный снегом, прозябший на морозе, возвращался домой к вечернему чаю. И снова все мои за столом, в тепло натопленной горнице, говорим о картине, о завтрашнем рабочем дне… Проходила длинная ночь, утром снова за дело».
С появлением этого полотна критики стали говорить о рождении совершенно особого «нестеровского» пейзажа. Трепетные белоствольные березки, пушистые ветки вербы, кисти рябины, горящие на приглушенном фоне листвы, неяркие, почти незаметные осенние или первые весенние цветы, недвижные воды, в которых отражаются замершие леса и поля, бесконечные дали, открывающиеся с высоких холмистых берегов реки.
В нестеровских пейзажах природа тиха, безмятежна, грустна, горизонт высок. Иногда линия горизонта скрыта лесом, как в «Юности Сергия Радонежского», или выступающими из-за деревьев церквами и избами, как в «Великом постриге», порою за фигурой святого подымаются покрытые лесом покатые холмы, в которых узнаются места на реке Деме, как в «Преподобном Сергии Радонежском», а иногда взору открываются бесконечные дали свинцово-белой реки и уходящих к горизонту высоких прибельских холмов, как в картине «На горах».
К теме монашества и отшельничества Нестеров обращался еще не раз. Сильными, композиционно законченными произведениями такого рода стали картины «Тихая жизнь», «Мечтатели», «Молчание», написанные в результате путешествий художника по монастырям Русского Севера.
Среди работ Нестерова конца девяностых годов особняком стоит полотно «Дмитрий-царевич убиенный». Картина была задумана, когда Нестеров, «…вырвавшись из Киева, хотел надышаться… воздухом среднерусских лесов, веянием народной старины, сохранившейся в древних городах Верхнего Поволжья». Побывав в Угличе, где оживали строки пушкинского «Бориса Годунова», он посетил музей, переделанный из дворца царевича Дмитрия, видел иконы с его изображением.
В картине использована символика, характерная для иконы, – нимб над головой царевича, Спас в небе, его благословляющий. Пейзаж с тонкими и прямыми, как свечи, березками находится в некотором противоречии с мертвым, бледным лицом царевича, который, не касаясь земли ногами, парит над лугом в золотой короне с успокоенной улыбкой на лице.
Окончание следует...
