-2 °С
Облачно
Все новости
ПРОЗА
9 Октября 2020, 15:59
Байроновский ветер и осень-постыдница
Инфернальный, но без ожесточения, бился в утробе водосточной трубы ветер. И вертелся, но без всякого умысла. И всё у него столь просто; подобно колотушке, что постукивала шибко. Жил и насвистывал он – за просто так. Ветер, нарезав мириады кругов в трубе, затих на какое-то время – затаился. Выжидал… как мышь или наоборот, как ангорский кот. Водосточная «флейта» от прямых и косых попаданий лучиков солнца вся разогрелась, осоловела. Прикоснись попробуй – обожжёшься!
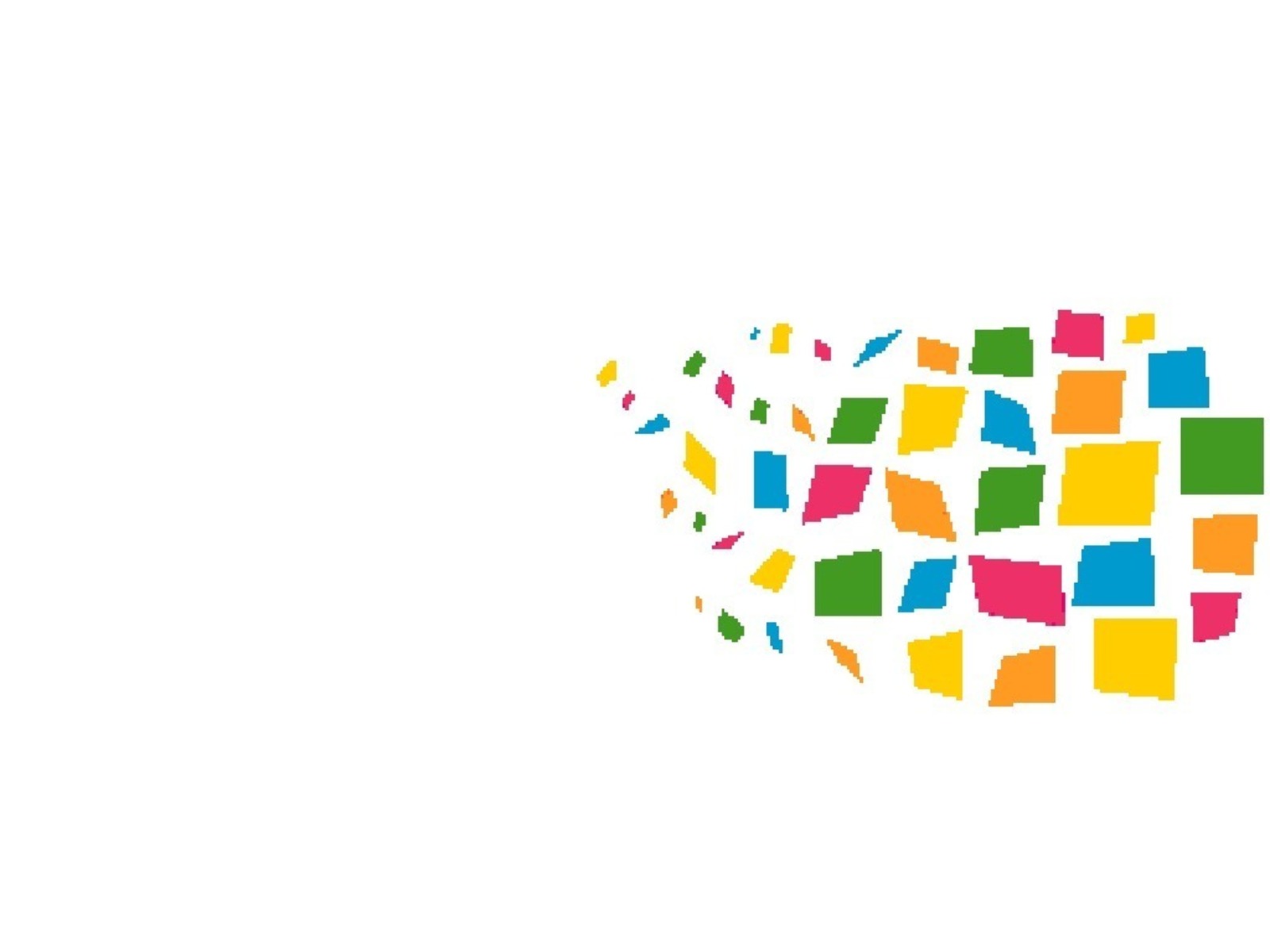
И невесть какая горечь полуденная! Печалье. Горечь жгучая. Верно печка – хошь оладьи пеки. Отсидев свою канючную «вечность», ветер вырвался из жестяных узилищ и дальше полетел наводить свой хрестоматийный порядок. Метнулся петушком.
Его движения бестелесной сущности весьма отточены как у солдата-гренадёра на плацу. Порывист, сметлив в меру. И красавец, херувимчик каких сыскать нынче каторжно, по-настоящему сложно. И романтик, стало быть. Характер ещё тот, если отнестись к нему как… к человеку. К более живому, самодостаточному. Такие вот сладкие словеса о ветрогоне, почти байроновском ветре.
Прошёлся он, как слон в посудной лавке, по черепичной крыше. Она, бедняжка, хлипка, квелая, и крепости былой уж нет давно. От не чаемого страха прыгали то вверх, то вниз её края. Трясучка – это же как пить дать трясучка! И вскружил наш романтик голову флюгера, что стоял одиноко на коньке чердака, над слуховым окном. Вертушкник уж в крапинках ржавчины, и стрелка стальная не совсем прямёхонька. Завертелся и то с противным скрипом, с некой старческой немощностью. Трёхмачтовый флюгер-кораблик. Некогда символ, гордость домочадцев. Кто же, стало быть, сейчас помнит о его существовании, бытие? А ветер-верхолаз следом сиганул за прозрачной полоской света, то ж дня.
Бухнулся булыжником… а он и таковым может быть, в заросли, в гущи листвы старого клёна. Клён рыжеват, желтушен и малость уныл. На дню сколько своих «сестричек-лисичек» растерял, рассыпал? И всё по дурости своей, лени. Нет бы топнуть грозно ногой да посильнее, чтоб за версту услыхать можно было. Но нет, стоит тут: то ли дремлет беспробудно, то ли «уплыл» в вековые раздумья свои. Клён, ты – клён с канифольным отблеском. А ветер молодцом: всё твоё спокойствие и порушил, вывернул размышления наизнанку. Поддал жару… холоду, свежести, новизны как таковой. Зашушукали «сестрички-лисички» по-доброму, со смешком. Засверкали на янтарном свету их щёчки полузеркальные. Ветер же галантно, со слащаво-обходительными нотками в голосе, им и говорит:
– Пардон! Прошу прощение за наглость, за вероломство своё, так сказать. Не угодно ли вам сударыни поиграться со мню в буриме?
– Ух, какой Казанова выискался! – скопом зашуршали полушёпотом сестрички, – Вам бы стишки всё читать да балагурить. Позёрстововать. Шорох, то ли перекатистый смех заиндевел, засеребрился в волнистых струйках воздуха.
– Ну, бывайте! Нет желаньица и не надо! – взмыл вверх ветер, да с обидецой. Обидой. Укушенный. Подкузьмили так подкузьмили. Неловкое как бы положение. Нет, не приняли его сорванца – кавалера.
Долго он на небе бесновался. Злость выпроваживал веником. Молотил перину сизых облаков кулаками, что паслись рядышком. Им уж что?.. Ползут тупо по небу как коровы, ничего не чувствующие и не понимающие. Тихие создания, что с них взять. Разве что, бывает, набегут «волки в серых шапках» – тучи. Но не об них сказ. Да, и погодка ныне чудная, платочно-цветастая. И солнечный блин… барин раскатывает на своей золотой четырёхколёсной пролётке. Не до анисовки сейчас, не до слёз дождливых.
Ветер же развеявши внутренний свой жар-полыхань вниз кувыркнулся. Ближе к дороге. По ней, пыльной и растопыристой, полусогнувшись, шёл мужичок, волоча за собою колесо от телеги. Кости, рёбра из-под рубахи торчат – желудок есть просит. И диво-дивное же, крепкое колесо. Для хозяйства поди всё сгодится, что под руку попадётся. Спёр он колесо. То и слепой заприметит. Видимо, базар где поблизости. Карусели с музыкой пищательной. Цыгане рвут пьяно гитару. Взаправдашний народ вестями обменивается да жирными курями хвастается. И несомненно, денежка меднозвонная карман тяжелит.
Вдруг тут на дороге ветер как наскочит, заюлит-заверещит дудкою перед мужиком. И хвать его шапку. Шапка-то всё же дрянь, одни дырины, да круглится кривою шишкою. Но ухватил себе подарочек ветер, что аж сердце засахарилось от радости. И понёс дальше к бронзовеющему лесу, что маячил на горизонте. Осень – постыдница, нарциссница обычно в шелках ярких и щеголяет. То всем отрада и любование.
А мужичок в гневе – аж мандраж пробрал. Плечами свирепо трясёт. Матюгами кроет невидимого незванца. Брык колесо в овраг, а сам дёрнул, что есть силы, за убегающей шапкой. Бежал он как на «автомобыли». Нёсся как сущий грек-марафонец. Ноги, поди, аж складные ножики, циркуля, лихо выделывали загибы, углы. Руки – цыплячьи лапки, кажись, танец какой вырисовывали. Голова-луковка его красна от прилива крови, злости. Но что ему до ветра… байроновского ветра. Не достичь той цели, не добежать до шапчонки-развалины. Не теми шажками он жизнь свою мерил. Не туда глаз воробьиный с прищуром смотрел.
Ветер утёк с гостинцем и был таков. К лесу, к озеру, сверкающему как цинковый таз. Лодки на берегу перевёрнуты, как дохлые рыбы лежат. Голуби-крохотушки недалече важно топчут тишину. Вот уж где благодать и умиротворённое томление. Осень, знаете ли, влечёт и дурманит умишко. И ведь изумительное есть дело: за перо, чернильницу тянет взяться – пощекотать бумагу. И нельзя не взяться.
Алексей ЧУГУНОВ, фото автора
Выбор редакции
КОЛУМНИСТЫ
1 Июня 2025, 11:00
Современный сэсен Башкортостана или О вопросах духовной, литературной и музыкальной иерархии в системе тенгрианства
КОЛУМНИСТЫ
21 Февраля 2025, 14:00
От первого лица
КОЛУМНИСТЫ
28 Января 2025, 10:00
Надо ли троллить писателя?
КОЛУМНИСТЫ
7 Января 2025, 11:08
150 НОМЕРОВ…
Новости партнеров
