-3 °С
Снег
Все новости
ХРОНОМЕТР
8 Июня 2020, 20:00
Тревожным летом 86-го
Взрыв на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года был поистине катастрофой планетарного масштаба. Развороченный ядерный реактор все еще беспрепятственно изрыгал в пространство невидимые лучи смерти, а к станции уже подходили эшелоны, сформированные из военнообязанных, пребывавших в запасе.
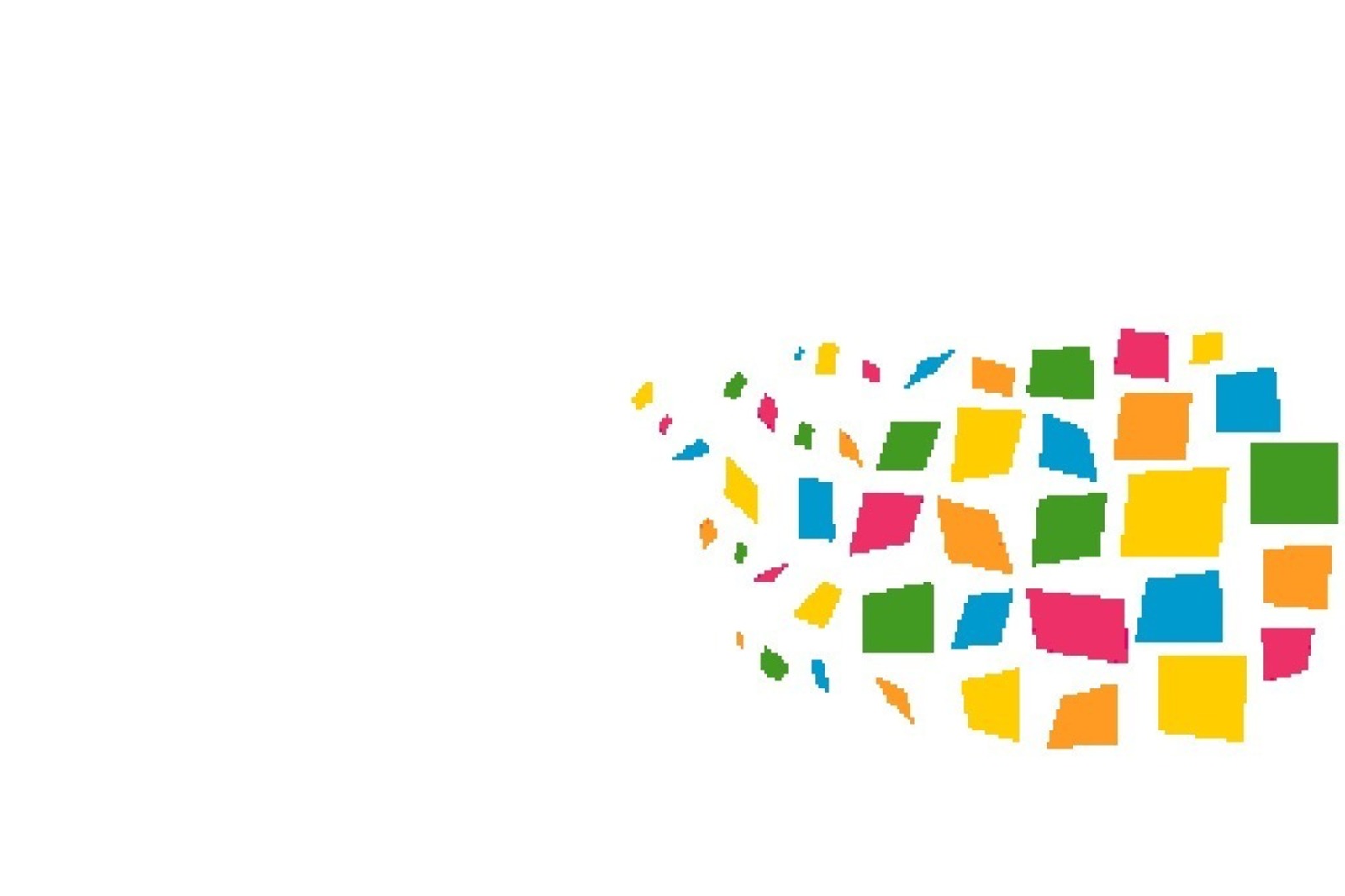
Среди тех, кого тревожным летом 86-го мобилизовали для участия в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, был и уроженец Дюртюлей Ильяр Ризванов.
Когда Ильяр был маленьким, Ризвановы жили на самой окраине села, на кривоватой улочке Горной, прилепившейся к кромке оврага, в домике-полуземлянке со сплетенными из прутьев глинобитными стенами. После восьмилетки Ильяр, единственный сын у родителей, решил поскорее примкнуть к рабочему классу и обучился на шофера в Яркеево. Успел до армии немного поработать по полученной специальности, а потом уже шлифовал профессиональное мастерство в автобате Забайкальского военного округа. Честно отслужив полный армейский срок, вновь стал «водилой», сначала в Доме быта, затем в доручастке. Женился на приглянувшейся девушке Маскуде из Оренбуржья, часто гостевавшей у соседей. А там один за другим у молодых родились двое пацанов.
Незаметно пролетела дюжина лет, наполненных каждодневными заботами об устройстве быта, тихими семейными радостями. Вот и сыновья подросли, стали школьниками. Отца-фронтовика весной 86-го хватил инсульт, от которого он уже не оправился.
Похоронили его – и буквально через месяц рядового запаса Ризванова повесткой затребовали в военкомат. Было это в субботу. Встревоженная Маскуда, как и любая верная спутница жизни, пыталась уберечь мужа от командировки в Чернобыль, но тщетно. Прошел медкомиссию, и ранним воскресным утром легковушка доставила его в Уфу, на республиканский сборный пункт. А там таких же бывших солдат набралась уйма. Всех незамедлительно погрузили в эшелон, который домчал их в Тоцкие лагеря.
С месяц с ними плотно занимались – обучали, как надо действовать в зоне радиационной опасности, а потом поезд довез их до Киева, откуда ликвидаторов незамедлительно перебросили к АЭС. Здесь, на опушке леса, непосредственно за 30-километровой зоной, вновь прибывшие разбили свой палаточный лагерь. «Из Дюртюлей мы были вдвоем с Мухаматом Ганиевым, тоже водителем автокрана. Поэтому всегда держались вместе: попали в один инженерно-технический батальон, жили в одной палатке, работали на одном автокране», – рассказывает Ризванов.
У солдат все подчинено армейскому регламенту. Особенно в такой экстремальной ситуации, как на Чернобыльской АЭС. Работали в три смены. А смена длится самое большее час, самое меньшее (если поднимаешься на крышу разрушенного реактора) – 45 секунд. День ли, ночь ли – без разницы. Бывало, подымут ночью, отобедаешь в круглосуточной столовой – и айда, стройся. Комбат, светя фонариком, выкрикивает фамилии, кому куда, называет номера машин, которые развезут солдат по разным адресам. А там уже ждут прорабы, которые заставляют то полы, то ящики какие-то мыть спецраствором – кому что достанется. Саркофага над реактором тогда еще не было, но подготовительные работы к его возведению уже вовсю шли. На глазах Ильяра вертолет завис над развороченным энергоблоком и установил металлический каркас.
«Мы там смолу запекшуюся долбили ломом с приваренным к концу топориком, – рассказывает Ризванов, – двое долбят, двое скидывают вниз отколовшиеся куски совковыми лопатами. Велят считать про себя. До определенного счета дойдешь, работу бросаешь и уходишь. За тот короткий промежуток, что ты на крыше, удается отколупнуть всего-то с гулькин нос. Спустишься и идешь в санпропускник, где раздеваешься, при этом солдат с дозиметром проверяет все, что ты с себя снял. Если много в какой-то одежке рентген, складываешь в отдельную кучу: ее потом увозят куда-то. Если нет – пускают на обработку, чтобы можно было снова одеть».
Дней через десять наших земляков посадили на автокран. Они вытаскивали подземные трубы, поднимали на машины огромные контейнеры с радиоактивным хламом, разгружали железобетонные плиты, укладывали их на землю. В общем, работы, и тоже опасной, было очень много.
Вот тут-то однажды Ильяр и переусердствовал. Заступив на смену, разгрузил он, как и положено, один «КамАЗ» плит. После чего ему надлежало скорее уносить ноги из этой зоны, уступив место сменщику. Но тот почему-то замешкался, а под разгрузку уже встала другая машина с точно такими же плитами. Прибежал стропальщик, зацепил тросы за крюки. И наш земляк опять принялся за работу, надеясь: авось пронесет. Не пронесло – получил двукратную дозу облучения, за что ему попало от взводного.
Приедут они домой, то бишь в лагерь, отработав смену, приходится и тут вкалывать. То тюкаешь топором да стучишь молотком – строишь казармы, то на кухню в наряд заступаешь – чистишь картошку, то на часах стоишь, то прибираешься в своей палатке. «Жили мы всемером, – вспоминает Ильяр. – Кроме нас, были мужики с Украины, из Казахстана и Киргизии, из разных областей России. Но вместе мы редко собирались: ты приходишь – он уходит. Ведь нет для нас ни выходных, ни праздников – днем и ночью идет работа. Командир у нас больно строгий попался, то и дело заставлял печку белить, требовал, чтобы кровати были идеально заправлены, чтобы ничего лишнего не держали в тумбочках. Но зато на регулярно проводимых смотрах палат мы почти всегда занимали первое место. А еще после каждой смены писали рапортичку на имя главного радиолога воинской части – какую работу выполняли, сколько рентген получили».
Осень только-только вступала в свои права. Поэтому ягод, грибов было в лесу много. Но наши друзья, по настоятельной рекомендации военврачей, остерегались их пробовать. Да и в столовой кормили хорошо, овощи и фрукты в меню присутствовали постоянно. И всегда в качестве профилактической пищевой добавки на столах стояла большая тарелка с луком и чесноком. Вот на них-то земляки налегали более всего.
Тридцать три дня продержали команду, прибывшую из Башкирии, на работах на Чернобыльской АЭС. Многие, в том числе и дюртюлинцы, удостоились благодарности за проявленную самоотверженность при выполнении этого особо важного правительственного задания.
Но, к сожалению, среди них нашелся один уклонист, который всю дорогу упрямо твердил, что ноги его не будет в зоне радиационной опасности. Когда прибыли в лагерь, тоже наотрез отказывался выйти в смену. Через некоторое время он исчез – то ли сам сбежал, то ли его увели «куда следует».
По приезде домой «чернобыльцев» взяли под строгий медицинский контроль. Ведь каждый «заработал» свою дозу облучения – у дюртюлинцев она, судя по реакции врачей республиканской больницы, оказалась одной из самых высоких. Через некоторое время им дали вторую группу инвалидности. Работу пришлось оставить. Но Ильяр каким был жизнерадостным в детстве, таким и остался. «Лично мне, – говорит он, – на государство, на местные власти грешно жаловаться. Пенсию назначили хорошую. Льготами положенными не обделяют. Врачи к нам относятся внимательно, лечение дают по полной программе. Ежегодно по бесплатной путевке ездим на курорты. Жилищные условия улучшили. Между прочим, были среди нас и такие, кто поехал в Чернобыль исключительно в надежде на квартиру. Помню, один товарищ через недельку, как мы стали работать на АЭС, заявил начальству, что у него на гражданке семья осталась на съемной квартире. “Разберемся”, – сказали ему высокие чины. И вскоре командир части объявил перед строем, что его семье предоставлена благоустроенная квартира. И правильно. Раз государство подвергает человека опасности, оно должно позаботиться о его семье…»
Ризвановы теперь проживают в доме по улице Советской, который, к сожалению, пока никак не обозначен. Но, сдается мне, когда-нибудь и на нем обязательно «зажжется» тимуровская звездочка, как на калитках фронтовиков, солдат Победы. Ведь и они, «чернобыльцы», равно как и «афганцы», «чеченцы», достойны нашего глубокого уважения и преклонения за то, что в час суровых испытаний не дрогнули, проявили себя настоящими мужчинами, сознательно пошли на смертельный риск для того, чтобы оградить нас с вами от нависшей беды.
Ришат Ситдиков, г. Дюртюли.
Выбор редакции
Новости партнеров
