-1 °С
Облачно
Все новости
ХРОНОМЕТР
24 Декабря 2019, 20:10
Граф Перовский и зимний поход в Хиву. Часть десятая.
Выступление отдельной колонны из Эмбенского укрепления совершилось в большом беспорядке, или, вернее, в том «порядке», какой существовал в первой колонне генерал-майора Циолковского во все время из Оренбурга до Эмбы. Люди, измученные с вечера разными приготовлениями и походными сборами, не успели как следует выспаться; подняли их ночью в 2 часа, а в 5, то есть в совершенной темноте, колонна выступала уже из укрепления…
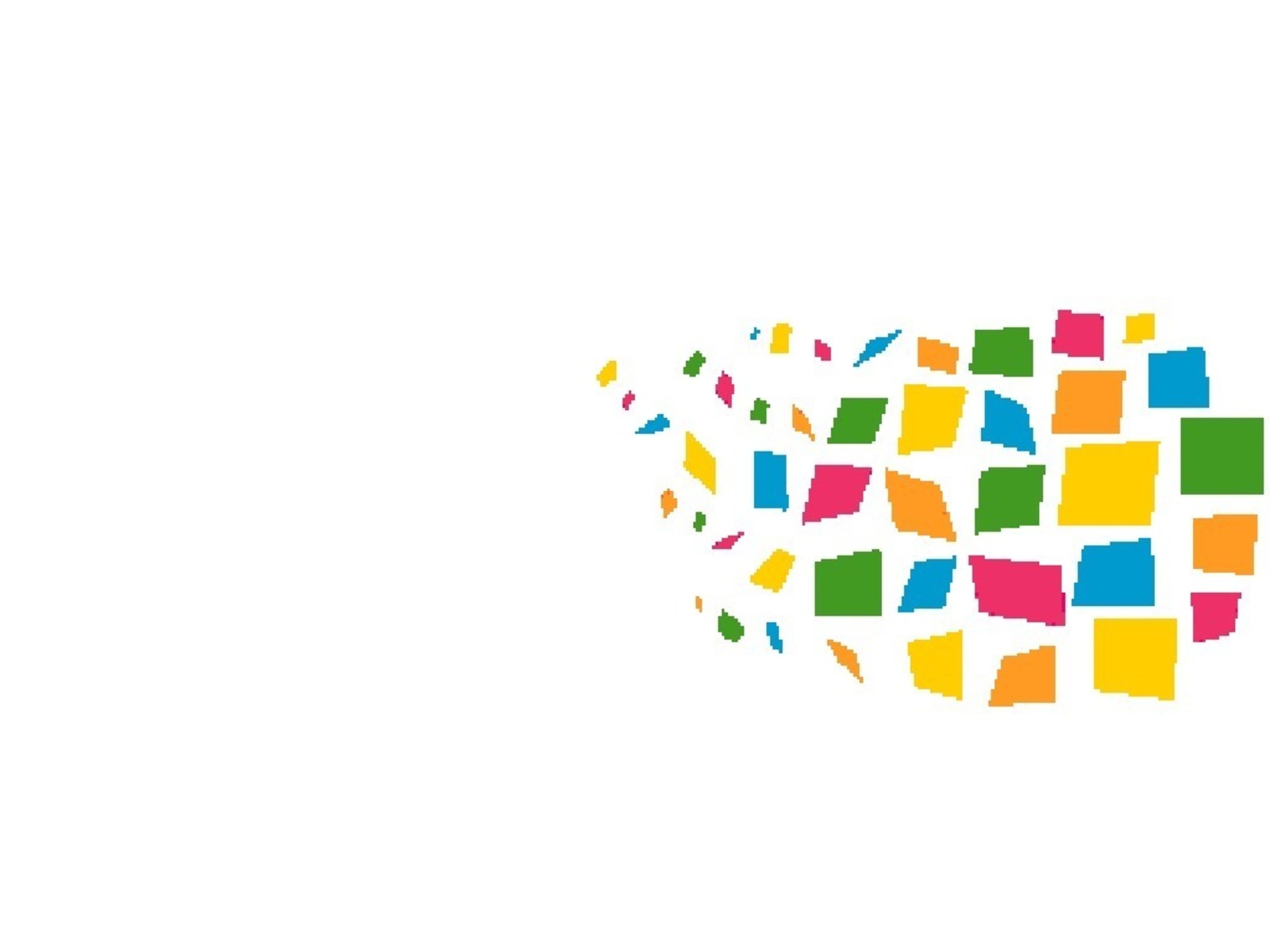
Такие ночные марши очень хороши летом; а тут они дали печальные результаты. В первый день колонна могла пройти всего 9 верст: невыспавшиеся люди и верблюды, пройдя впотьмах, до рассвета, по глубокому снегу более двух часов, измучились преждевременно, так что в 12 часов дня колонна не могла уже идти далее и должна была остановиться… Снег за Эмбою оказался еще глубже, а его ледяная кора от морозов, бывших постоянно более 20° (25°C), еще толще… На первом же переходе, после пройденных лишь 9 верст, пришлось оставить 10 верблюдов… Снег, покрытый ледяною корой, не выдерживал верблюдов, и они ежеминутно скользили или падали; а потому для протоптания дороги послан был вперед казачий полк, разделенный на ряды; но чрез несколько часов передние лошади стали сбивать себе щиколотки до крови, и их пришлось заменять задними лошадьми; за ними, растянувшись «нитками» же, шли верблюды, и таким порядком подвигалась эта колонна вперед… Вскоре от бескормицы верблюды до того обессилели, что если, случалось, какой-нибудь из них не попадал ногою в лошадиную тропу, то проваливался в снег и тотчас же падал, и поднять его на ноги не было уже никакой возможности, так что этот верблюд бросался совсем на произвол судьбы: шедшие в арьергарде на раненых лошадях казаки развьючивали такого верблюда, а продовольственные запасы разбирали – как они делали это и во время похода до Эмбы – по своим саквам… Затем несчастные верблюды стали падать всё более и более, так что оставались на местах ночлегов целыми десятками… Вновь заговорили в колонне об отравлении верблюдов по ночам денщиком генерала Циолковского Сувчинским…
Это тяжкое обвинение порождалось всего более самим же начальником колонны, то есть теми неправильными отношениями, в которые он поставил себя на первых же днях похода к офицерам и солдатам. На первом же переходе генерал Циолковский приказал изменить даже внешний порядок расстановки джуламеек: свою кибитку он приказал ставить не только выше всех прочих кибиток, но много выше бывшей кибитки Перовского, в самом центре каре, с длинным флагштоком, на котором укреплялся особый значок с польскими национальными цветами и гербом. Рядом с его кибиткой поставили было походную кибитку обер-квартирмейстера, но Циолковский приказал поставить ее позади, а взамен ее – походную кибитку-буфет, в которую и приглашал изредка штаб-офицеров… Словом, польская спесь и тут выступила наружу при первом же удобном случае.
Затем Циолковский установил такую систему шпионства в колонне, что офицеры могли говорить откровенно между собою разве только шепотом… Должность обер-шпиона занял унтер-офицер из ссыльных поляков Антоний Завадзкий, уроженец Виленской губернии, называвшей себя «юнкером» и вкравшийся в полное доверие офицеров. Этот Завадзкий, равно как и 17 человек других поляков, состоявших в колонне большею частью в унтер-офицерском же звании (все эти господа, произведенные в унтер-офицеры Циолковским, попали в оренбургские линейные батальоны после мятежа 1831 года из польских войск, где некоторые из них состояли офицерами – и затем были разжалованы и разосланы частию на Кавказ, частию в Оренбург), были постоянными гостями генерала Циолковского, обедали у него, ужинали, пили чай; иногда в виде особой милости генерал приглашал к себе на обед кого-нибудь из штабных офицеров, командиров батальонов, которые и попадали, таким образом, в довольно своеобразное общество, говорившее, к тому же, исключительно на польском языке. Генерал Циолковский, боявшийся ранее злого языка прямодушного штабс-капитана Никифорова, теперь уже не стеснялся никем и ничем: он позволял себе на этих обедах открыто порицать действия главноначальствующего, обвиняя генерал-адъютанта Перовского в «необдуманности похода»; он прямо высказывал мысль, что генерал Перовский не нынче-завтра должен-де быть уволен и отозван в Петербург и что, по всей вероятности, он сам догадается вернуться из Эмбенского укрепления обратно в Оренбург… что он, генерал Циолковский, в качестве старшего генерала в отряде должен будет принять главную команду – и постарается тогда взять Хиву… При этом он не раз успокаивал обедавших с ним поляков унтер-офицеров, что все они за поход будут непременно произведены в офицеры. Так как эти и многие другие речи начальника колонны сильно отдавали обычною польскою болезнью, политическим хвастовством, то приглашаемые штабные стали под разными предлогами уклоняться от званых обедов в штабной кибитке; затем перестал их приглашать и сам генерал Циолковский.
К солдатам начальник колонны поставил себя в отношения еще более худшие: точно он мстил им за то, что они несколько недель назад, когда он был уволен от должности начальника 1-й колонны, открыто радовались его увольнению. И вот теперь на остановках отряда, перед обеденною порою, когда люди приходили измученные и обессиленные, генерал Циолковский садился на лошадь (ехал он дорогою в возке) и спокойно начинал объезд колонны. Его сопровождали при этом несколько казаков, верхами же, с нагайками. Редкий день обходился без того, чтобы наказано было, и притом жестоко, менее двадцати пяти человек, а иногда число наказанных доходило до пятидесяти человек; достаточно было малейшего повода (ружье, не поставленное в козлы, а прислоненное к тюку, оторванная на шинели пуговица, лошадь не в путах, поставленная косо джуламейка и тому подобное), чтобы началось истязание несчастных солдат… Казаков генерал наказывал реже, солдат из поляков, то есть простых рядовых солдат, никогда. Оканчивались эти истязания обыкновенно в кибитке-буфете, где генерал после каждого обеда наказывал своего крепостного повара, который впоследствии, несколько месяцев спустя, жестоко отомстил своему мучителю.
Офицеры этой колонны бедствовали так же сильно, как и во время марша до Эмбы. Большинство строевых офицеров в оренбургских линейных батальонах были люди очень небогатые, жившие тем скромным жалованьем, которое они получали. В те годы не было ни «столовых», ни «добавочных», ни «наградных», а было лишь одно жалованье, получаемое по третям, то есть три раза в год: прапорщик, например, получал восемнадцать рублей с копейками в месяц, капитан немного более тридцати пяти… На такое-то жалованье надо было существовать в безлюдной, снежной пустыне, продовольствуясь всем у маркитанта и платя за всё самые невероятные цены. Маркитантом отряда был купец Михаил Зайчиков.
Этот самый купец Зайчиков в начале сороковых годов был судим в Оренбургской уголовной палате за продажу русских мужчин и женщин в неволю в Хиву. Делалось это так. Зайчиков имел в разных местностях Оренбургского края и нынешней Уральской области несколько тысяч десятин земли и занимался хлебопашеством. Во время жнитва приказчики Зайчикова, каждый раз все разные, ездили в Бузулукский и Николаевский уезды Самарской губернии и по окраинам Оренбургского уезда нанимали людей, давая им хорошие цены и выдавая крупные задатки; затем людей этих заставляли жать хлеб, укладывая на ночь спать в отдельные сараи. В одну из ночей киргизы, по заранее условленному плану, окружали со всех сторон сарай, связывали пленным руки и гнали их перед собою, как скот, в Хиву для продажи… Приказчики утром оказывались тоже связанными по рукам и ногам, и всё дело сваливали на хищников-киргизов. По решению палаты купец Зайчиков и его главный приказчик Филатов были приговорены к каторжным работам; главными обвинителями выступили противу них многие из пленных, вернувшихся летом 1840 г. из Хивы в Оренбург. Затем Зайчиков, следуя в Сибирь, обменялся именем с обыкновенным ссыльным, приговоренным лишь на житье в Сибирь, на известное количество лет и, отжив этот срок, вернулся под своим уже новым именем, Деева, в Оренбург… Совесть не давала ему покоя: он выстроил храм, богадельню и занялся вообще делами благотворительности… Но это не спасло его ни от народной ненависти при жизни, ни от всеобщих проклятий после смерти. О богатстве этого Зайчикова, так неправедно нажитом, ходят в Оренбурге и поныне легенды.
И вот какие брал он с офицеров деньги: фунт баранок, стоивший в Оренбурге три копейки, Зайчиков продавал по пятьдесят копеек, четвертка Жукова табаку вместо пятнадцати копеек продавалась по рублю; бутылка водки стоила рубль и рубль пятьдесят копеек ассигнациями, а в городе она стоила тогда тридцать пять копеек ассигнациями или десять копеек на серебро. Когда офицеры окончательно истратились, то Зайчиков, с разрешения генерал-адъютанта Перовского, которым он заручился еще на Эмбе, стал отпускать все припасы для офицеров в кредит и таким образом приобрел за время похода большие деньги, да еще был награжден потом золотою медалью на шею с надписью «За усердие»…
Иван ЗАХАРЬИН
Продолжение следует...
Часть девятая
Часть восьмая
Выбор редакции
КОЛУМНИСТЫ
1 Июня 2025, 11:00
Современный сэсен Башкортостана или О вопросах духовной, литературной и музыкальной иерархии в системе тенгрианства
КОЛУМНИСТЫ
21 Февраля 2025, 14:00
От первого лица
КОЛУМНИСТЫ
28 Января 2025, 10:00
Надо ли троллить писателя?
КОЛУМНИСТЫ
7 Января 2025, 11:08
150 НОМЕРОВ…
Новости партнеров
