Изумруд на спине жука
Евгений Морозов родился в Нижнекамске. Окончил филологический факультет Елабужского государственного педагогического института. Публикации: журналы «Дети Ра», «Стороны Света», «Артикль», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Формаслов», газеты «Поэтоград», «Литературные известия», порталы «Сетевая словесность», «Textura». Финалист поэтических конкурсов («Вечерние стихи», «Хижицы», «Лебеди над Челнами»), лауреат журнальной и газетных премий (журнал «Дети Ра», газеты «Поэтоград», «Литературная Россия»). Автор четырёх книг стихов. Член «Союза писателей XXI века». Член Союза российских писателей.
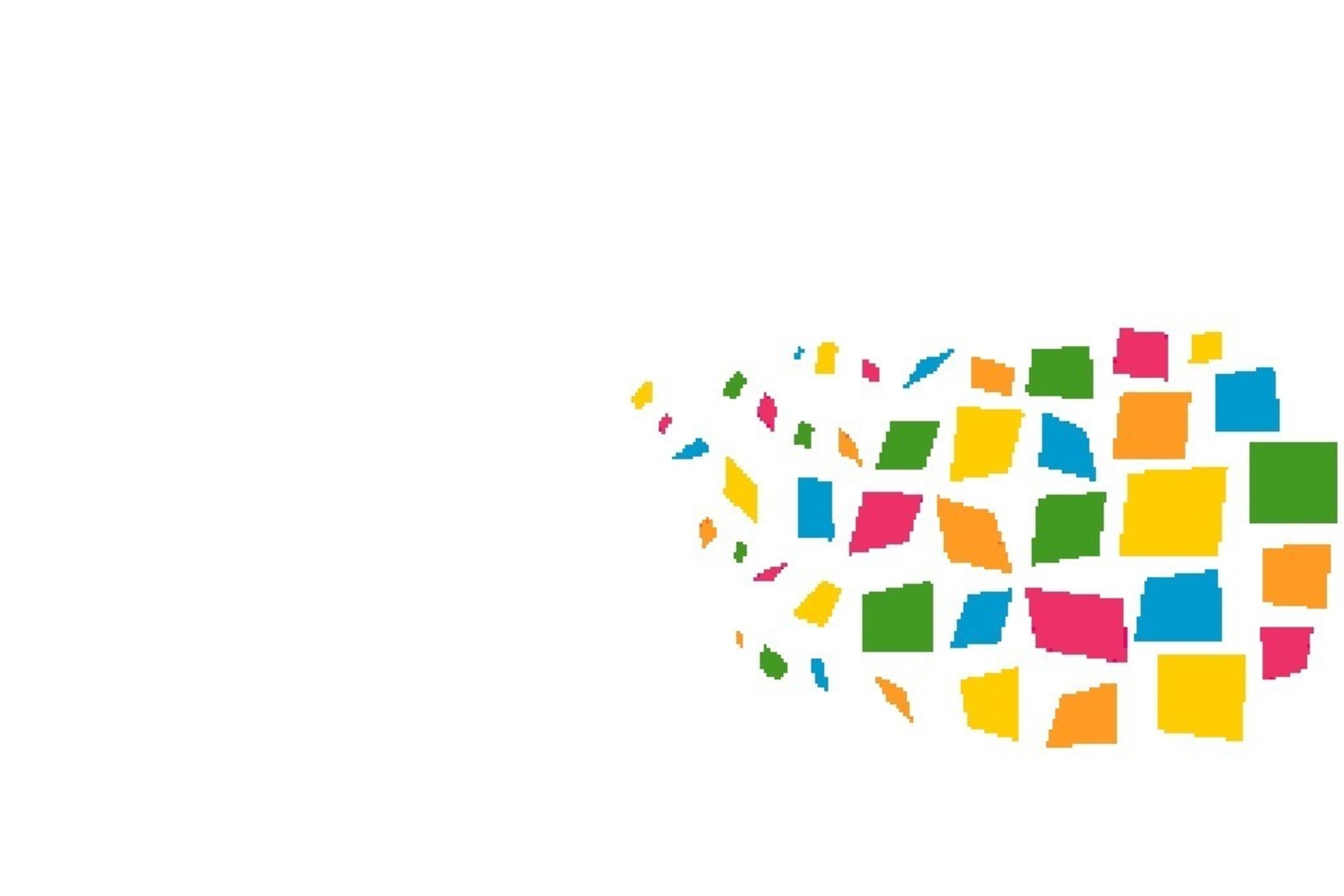
О себе
Сочинять стихи я начал лет в 14. До 12-летнего возраста ничем примечательным, наверное, не отличался, ходил в школу, посещал кружки, не горел в учении, больше нравилось играть. Ну разве что читал, как говорится, запоем приключенческую литературу. Лет с 12-ти, когда переехал в новый район города и почувствовал себя выдернутым из привычной обстановки, начал вдруг, так же запоем, сочинять прозу в разных жанрах – рассказы, повести, даже романы… В основном о приключениях или на исторические темы. Видимо, выплескивались накопившиеся впечатления. Через пару лет попробовался и в поэзии, но она, мягко говоря, оказалась не так проста в овладении… Точнее, сначала я видел, что не укладываюсь в ритм или неудачно подбираю рифмы, но даже потом, по полном овладении чисто техническими навыками, я вдруг понял, что поэзия для меня оказалась чем-то более глубоким, чем прежние жанры… Стихотворение у меня могло быть, чисто технически же, написанным совершенно верно, но не удовлетворять уровню мастерства и эстетики впоследствии, когда угасал жар первоначального вдохновения. Это казалось удивительным, я никак не мог постичь законов красоты, но это же меня стимулировало в стремлении к гармонии.Кроме того, над стихотворением, как над романом, не надо было корпеть полгода-год, оно более оперативно выражало внутренний мир… Может, это всё и послужило причиной, по которой стихи перевесили всё остальное, и я, так сказать, оставил прозу, чтобы постигать вечные законы поэзии.
Как известно, такой профессии, как «поэт» нет; поэтому впоследствии я просто отдавал стихам значительную или бо́льшую часть досуга – во время учёбы на филологическом факультете, в пору работы учителем русского/литературы, и вообще во всё остальное время, чем бы ни занимался… На протяжении лет десяти, когда интернет ещё прочно не вошёл в быт, я преимущественно варился в пределах собственного города, посещал ЛИТО, печатался в местных газетах, читал стихи в организациях и на мероприятиях. Периодически собирал стихи в сборники, но не выпускал официально…
Когда появился интернет и социальные сети, я увидел стихи современных поэтов, поэтов из столицы. Сначала они не понравились, поскольку я привык к классике, к Серебряному веку, и новое показалось странным и ненужно усложнённым. Но позднее потихоньку понял, что способы выражения поэтического в человеке трансформируются, что это процесс такой же естественный, как пополнение лексического запаса в языке… К тому времени я познакомился с поэтами из других городов, стал ездить на поэтические фестивали, участвовать в конкурсах, печататься в региональных и российских изданиях, периодически издавать поэтические книги.
До всего этого я долгое время не понимал, почему у меня по преимуществу получаются обычные трафаретные стихи, пока однажды мой друг, поэт и критик Борис Кутенков, не сказал мне «Вот хорошо, если бы ты свёл свою поэзию с ума…» Видимо, эта фраза оказалась наилучшей формулой для того, чтобы я изменил своё восприятие поэзии, я стал меньше понимать, больше чувствовать, доверять интуиции и языковому чутью, чутью корней слов, из которых, при добавлении различных флексий, словно растут разные смыслы… Вообще, из поэтов-классиков на меня сильно повлияли Александр Блок, Николай Гумилёв, нравился и Владимир Маяковский… Из зарубежных – Поль Бодлер и Артюр Рембо… Блок привлекал своим лиризмом, Гумилёв – романтикой, у французских поэтов мне нравились депрессивные мотивы и необычность в сюжетах… Но вот именно эта формула Бориса Кутенкова настроила меня лучше понимать более сложных поэтов – таких, как Осип Мандельштам, Николай Заболоцкий, Арсений Тарковский (до сих пор актуален)… Это всего лишь некоторые из имён, нравились многие поэты. Значительно повлияло и направление метареализма, мне нравилось то, как его представители через сочетание неожиданных по смыслу, но рядом поставленных слов, расширяли степень привычного понимания стихов, изобретали новые приёмы по выражению трудновыразимого… Но сейчас я бы не выделил кого-то одного, кто значительно влияет на творчество. Скорее, можно сказать, что я впитал всё прочитанное, и оно отражается и в моих стихах, перекликаясь с ранее перепетыми мотивами и темами. Подлинное стихотворение – это ведь как запертый сундук с сокровищем, а читатель – владелец связки ключей, которые могут и не подойти к сундуку… Пока читатель не столкнётся со схожим случаем, затронутым в стихотворении, на примере личной жизни, он может стихотворение и не понять, не проникнуться. Стихотворение может ждать годами своего читателя, пока читатель не обретёт нужного духовного опыта из собственных переживаний, пока они идеально не совпадут – настроением, стилем, интонацией...
Поэтому со временем моя поэтика, наверное, так же усложнилась. То есть я не отказался от классики, от неё можно взять само содержание, она хранит зёрна вечных тем, но форму, способ подачи и осмысление этого лучше брать у современных поэтов, чтобы чувствовать ритм нынешней эпохи, её дыхание и подтексты.
Если говорить о том, для чего же само творчество, зачем повторно писать о вечных темах, столько раз затронутых и другими поэтами… Мне кажется, что все наши слова, тем более стихи, даже вся наша деятельность, любое искусство – это попытка имени, попытка для обозначения невыразимого, живущего в нас. Невыразимость в том, что мы недостаточно понимаем себя, мало знаем или думаем, что знаем хорошо, когда это не так… В 14 лет ты думаешь, что достаточно всего-навсего овладеть техническими приёмами, чтобы написать хорошее стихотворение, лет через 20 понимаешь, что поэзия – это если не философия, то форма духовного служения для постижения собственной же природы, природы человека… Стихи – это лишь способ прикоснуться к прекрасному, теплящемуся внутри. Самое прекрасное в человеке, быть может, умение простить, быть добрым, быть искренним… От рождения человеку даны тело и энергия, которая со временем угасает, или постепенно переливается в мир совершенно иной, пока от живущего не останется совсем ничего… Вот об этом, как мне кажется, и хочет рассказать каждый, но по-своему, в разных видах своей деятельности. Он хочет сказать, что любит, умирает, желает продолжаться, боится, вдохновляется, верит во что-то… Но что бы он ни говорил, что бы ни делал, это всего ещё одна жизнь в ряду других таких же. И чувствовать он будет намного больше, чем сумеет об этом досконально объяснить. Поэтому людей нетворческих, наверное, нет. Творчество – это способ бескорыстного удивления по поводу того, как твой мир необратимо меняется, как при помощи мыслей ты пытаешься постигнуть его тонкие, но нерушимые законы… Я делаю это при помощи стихов. Потому что этот способ у меня получается наиболее честным и наилучшим образом. Он даёт больше спокойствия и чувства правильности, чем что-то другое.
Евгений МОРОЗОВ
***
Цветок, не цвети. Трава, не расти.
Тепло, не волнуйся в крови́.
Скажи поперёк, да поди запрети
невзгоде, природе, любви...
Давая, скрывая – намёк или знак,
про главное не говори,
чтоб было не больно, чтоб было не так,
что сильно и странно внутри...
Я знаю, что незачем – смысл придавать,
искать что-то кроме в глупце,
как только до света тебя целовать,
до счастья в красивом лице...
Что нежная дикость – природа сама,
где редко – такие пути,
чтоб не потеряться, не сбиться с ума,
чтоб мо́лча любить и идти…
Но если от слов удержаться не смог,
признался об этом едва –
расти как трава и гори как цветок
за лучшие в мире слова.
Подумают: «Глупый». Ответят: «Прости...»
Поймут, не поймут, как назло…
Но ты не прикажешь не жить, не цвести,
когда наступило тепло.
***
Хлопнув дверью, я вышел тихо –
было лето, ещё не зной,
воздух, пахнущий земляникой,
плыл зелёный, речной, лесной...
Плыл сквозь стены, висел над крышей,
прикасался тепло щекой,
стыл в деревьях, сползал неслышно,
трогал травы живой рукой...
После хо́лода, как прогрето,
после зим, где снегов легло,
очень странно – от жизни, света,
очень странно, что есть тепло...
В какофонии всех мелодий
всё стремится, тебя храня:
ничего ведь не происходит,
кроме солнца и кроме дня.
Ничего, что с небес прицелясь,
ждёт зима и молчит пока,
но сильнее – живучий шелест,
изумруд на спине жука...
***
Что я делал двадцать первого,
знал о чём, забыл – потом…
Ни дото́чно, ни примерно я –
двадцать пятого о том.
Как под память не заглядывай,
нет ни дна, когда давно:
двадцать первое и пятое –
жизнь одна, и всё одно.
В круговом однообразии –
пролистни, переначни́ –
страшно, аж до безобразия,
всё похожей дни на дни…
Словно спал ты или, пьяница,
вспоминал из-под стола –
про покойницу, про разницу,
двадцать пятого числа.
Двадцать первого, взволнованный
учащением в груди,
не сиди внутри – по-новому
наяву происходи,
чтоб трепал тебя, подхватывал
ветерок, и ты сполна
не припомнил двадцать пятого
двадцать долбанного сна…
Чтобы сердце вспоминателя
не жалело и не жгло:
лишь сегодня – обязательно,
а потом белым-бело.
Органный зал
Я вошёл сюда, половицей скрипнув, –
в зал органный с чуткою тишиной,
чтобы стать убитым вот этой скрипкой,
этим деревом, этой его струной.
Средь усилий гулких и тихих ритмов
не одна лишь скрипка скрепляла нас,
но она запомнилась, как молитва,
говоримая искренне в трудный час.
Средь других играющих инструментов
так она тянула свою струну...
Так про жизнь крутила, как киноленту,
затяжную, злую, мою, вину...
Что звезда из глаза скатилась скупо,
словно всё простилось, и понял я:
этот свет скрипичный, природа звука –
это есть твой голос, душа моя...
О, убийца словом и посторонний
обитатель улиц, жилец домов,
почему же хору таких гармоний
ты давно созвучен среди шумов...
Гордецу до смерти и жизнелюбу –
деревянный зал, тишину-погост,
где Господь скрывался в готичных трубах,
где заплакал я – оказался прост...
***
Я слышал, что римлян
сгубила уставшая власть;
устанешь и ты, блин,
чтоб Римом отрубленным пасть.
До света лучивший
всю ночь, как листок на суку,
торчавший, лечивший
четвёртую в тексте строку,
ни капли не спавший,
ловивший у неба совет,
про всё вспоминавший
о чём-то забывший поэт,
про власть над собою
не знавший, но, как на краю,
мольбой и ходьбою
империю длящий свою.
В кромешном чертоге
патриций одной простыни,
какие там тоги
носили в сенате они...
Какие-то óрды
напором сметал легион,
ты сон гонишь твёрдо,
и всё возвращается он.
Придёт и обманет,
усталостью ляжет верхом,
но текст перестанет
и станет обычным стихом.
И ты перестанешь
быть Римом и станешь рекой,
и, может быть, ранишь
однажды четвёртой строкой.
***
Долгой нитью, тёплой болью,
чуткой нежностью в крови,
связью крепкой – мы с тобою,
разорви-не разорви...
Так глядишь и видишь сразу,
как свободен и что цел
человек, но так привязан
к морю слов и разных дел…
К полусчастью и несчастью,
к дому, городу, стране
и глазам, какие часто
вспоминает, как во сне...
Он старается спокойно,
он куда сильней всего,
но спешащее, но больно,
но есть сердце у него...
У него покой порою
не заводится в груди,
у него внутри, не скрою,
так – что лучше уж гляди..
От темно́т досве́тов верхних
проживая чувства, будь –
у него (-неё), у всех них –
чувство нити, словно путь...
Словно зов во тьме пропащей,
где иные не важны,
кроме нити уводящей,
жизни, музыки, струны…
***
Люди, с которыми вольно-невольно
видишься или знаком...
Да, невдомёк им, как честно и больно
ранен ты детским цветком.
Не до тебя им, до всех твоих песен –
каждый в разладе таком...
Каждый один и расстроен, что весь он
раненный детским цветком.
Не удивляйся, испытывай жалость...
Все эти беды, пойми...
Вроде бы люди росли и старались,
только остались детьми...
В эти глаза, где года и заботы,
просто в глаза посмотри –
детское самое, хрупкое что-то
спрятано прямо внутри.
Скройся в груди, не показывай вида –
каждый, кто б это ни мог,
может взорваться от детской обиды,
то есть хранит свой цветок.
Самую нежность, какую не спишешь
в горе, в приливе тоски, –
просто ты любишь, просто ты дышишь,
просто его береги.
Чуткую боль в твоём собственном теле
всюду с собою возьми,
просто все дети, какие взрослели,
всё же остались людьми.
***
За твоё душевное человечье,
за о самом главном на просторечье,
за среди всей сложности остального,
за – такое дело – родное слово...
И уже размякнет, и дрогнет нежно,
и уже он сам человек, конечно,
и как будто не был – вернулся снова,
и в ответ посмотрит... И будет слово.
В этом слове он – твоя кровь и рóвня,
он тебя так понял, как будто обнял,
словно слышишь голос с последней клятвой,
видишь, как похож он, как будто брат твой...
В занесённом городе, в ясном поле
это слово мне говори ты, что ли,
говори не мне – говори кому-то,
но хотя бы раз, чтоб теплело будто...
Потому что, если оно согрело,
это слово самое – это дело,
потому что это равно спасенью,
потому что слух не уступит зренью.
