Совершенно разные вещи
Салават Вахитов – профессиональный литератор, писатель, поэт. Автор книг: «Люби меня всегда», «Стрекоза и Оми», «Салагин», «Хорошие люди», многих рассказов, статей, стихов.
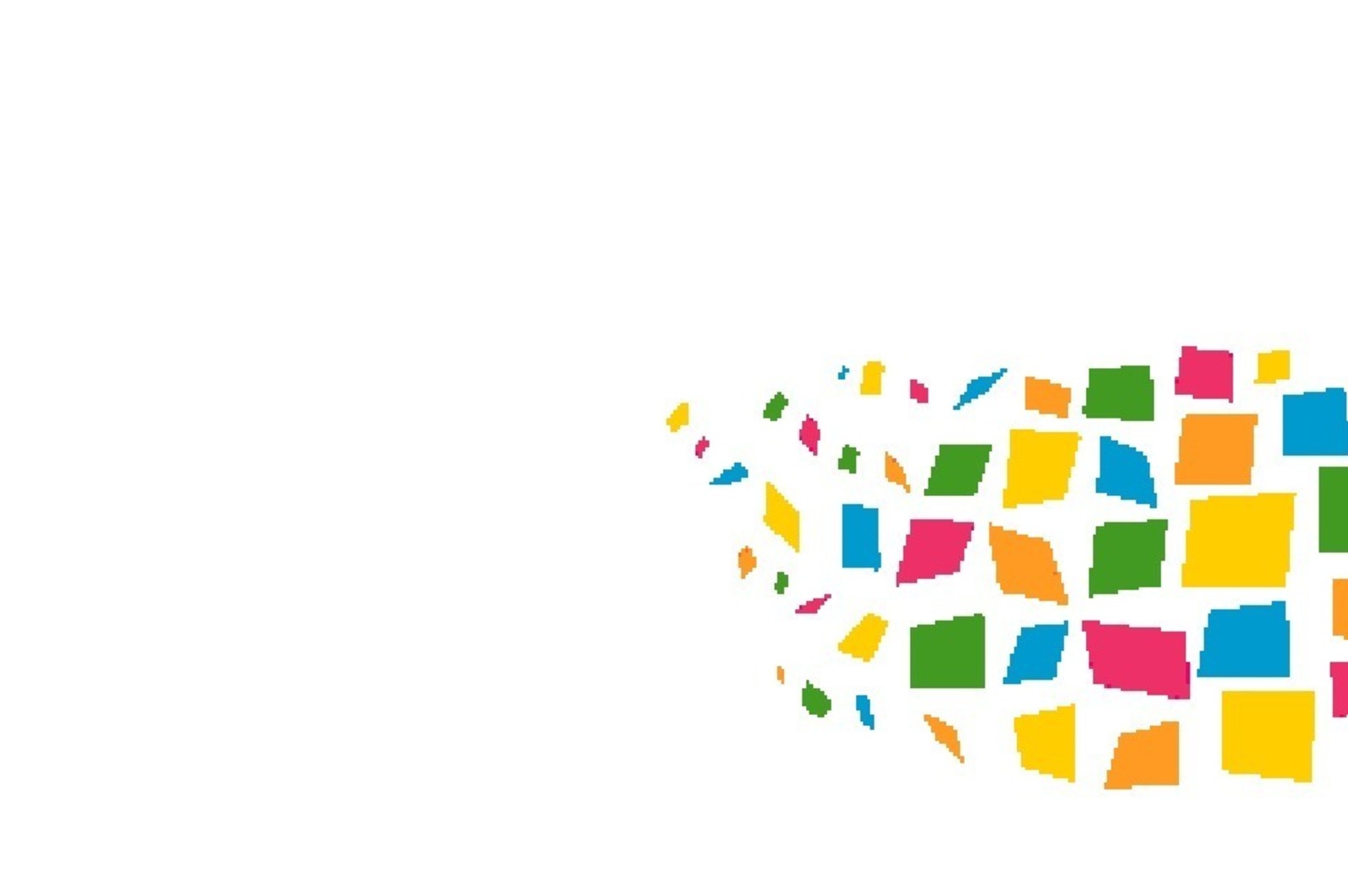
Советский учёный-филолог, он собрал и выпустил в читательский свет словарь уфимского игрового (карточного) сленга. Он же издал книги ряда уфимских авторов, поэтов и писателей, в начале 2000-х, ставшие сегодня раритетом. Журналист, некогда ответственный секретарь журнала «Бельские просторы», исследователь Карамзина Салават Вахитов закончил в 1987 году БГУ и защитил кандидатскую диссертацию. Полтора десятка лет молодой учёный преподавал на кафедре Уфимского пединститута по советским методикам величайшую литературу в мире, изящную русскую словесность. До тех пор включительно, пока её окончательно не уничтожили (не уничтожили) на этот раз уже средствами Западноевропейской массовой информации, неисследимо вездесущими. И сегодня мировой информационный мусор плоится в виде подарочной Троянской лошади во всех электронных носителях, к которым автоматически тянутся мощные руки жадных младенцев прямо от материнской титьки. Бушует массовое перепроизводство новых, теперь уже электронных техногенных варварских образований сознания и форм существования. Но так было всегда.
1
В волнах злобы и страха, которые плывут над землёй, по словам поэта, и сегодня как век назад, в беззастенчиво приукрашенном, несыто улыбающемся коллективном хаосе тонут незакатные острова самой что ни на есть подлинной и прекрасной человеческой культуры. Но это значит также, что они, спасительные, необитаемые, не выпотрошенные всеядным прогрессом островки чего-то бесподобного (но не бессмысленного), достойного лишь благодарного восхищения, там всё-таки есть и надо их только найти.
Напротив, агрессивно-вездесущая информация своей иллюзорной мечтой о вечном хайпе* допарализовывает неглубокие корешки потребительского коллективного мозга, сознания современного человека толпы, нового гражданина мира, если не просто проходимца. Троянская лошадь массовой культуры, заговорившая вдруг на волапюке, заменила обывателю соску, стала жвачкой.
2
Стихи русского писателя Салавата Вахитова, ещё помнящего на деле имена Пушкина или Карамзина – небольшая надежда (может быть, маленькая вера и уж точно – любовь) на то, что русская литература в Уфе не почила в бозе. А ещё вскакивает иногда. Изящная русская словесность есть, и она в силах постоять за себя. Есть её скромное обаяние, какой бы наглый кипишь ни продуцировали вокруг российской культуры и русской литературы свои или чужие пошляки, вульгаризаторы всех мастей, населяющие историческую и географическую Русь многострадальную.
Европеец и нобелевский лауреат писатель Томас Манн считал русскую литературу прямо святой. А первый поэт западной Европы Рильке придерживался того же мнения о России.
Можно предположить, что гармония русских стихов Пушкина выше даже шекспировской гениальной гармонии. Но стоит ли? А кажется, Музе английского гения и в сонетах, не удалось избежать драматического раздрая чувств, чтобы не сказать трагического миропонимания. Ценного для мирового читателя опыта Западноевропейского индивидуалистического миросозерцания в целом (до целого не досягающего). Напротив, русская поэзия в лице Пушкина умудрилась на уровне даже звука примирить начала – индивидуальное и общечеловеческое.
Именно это и выражено в великой русской поэзии, особенно в лирике (Державина, Пушкина, Баратынского, Тютчева).
Как возможность самого русского языка, природой его предназначенного для стихотворчества. «Для колокола братства и гармонического проливня слёз!». Таковы величайшие образцы русской лирики от времён ещё Ломоносова с Тредиаковским. Ода «Бог» Державина – суть не что иное как Эпифания в чистом виде.
Божественное и светское начала в русской поэзии вместе сливаются – и шумят неразлучно, как струи Арагвы и Куры, «обнявшись, будто две сестры» (Лермонтов).
Нет на свете народов не братских. Читай «Хаджи Мурата» Толстого или «Героя нашего времени» Лермонтова. Вот где истинно братский русский слог. Всех сладил между собой великий и могучий русский язык.
Собственно об этом и говорит вся русская литература и искусство. Вся изысканнейшая, великая русская культура, включая Дягилевский балет или Чайковскую оперу. Все эти мерцающие острова Небесной России.
Под занавес вспомним-таки буквальные слова упомянутого немца Томаса Манна (из письма школьному товарищу):
«В 23–24 года я никогда бы не справился с работой над «Будденброками», если бы не черпал силу и мужество в постоянном чтении Толстого. Русская литература конца XVIII и XIX вв. и вправду одно из чудес духовной культуры, и я всегда глубоко сожалел, что поэзия Пушкина мне осталась почти что недоступной, так как у меня не хватило времени и избыточной энергии, чтобы научиться русскому языку. Впрочем, и рассказы Пушкина дают достаточный повод восхищаться им. Излишне говорить о том, как я преклоняюсь перед Гоголем, Достоевским, Тургеневым. Но мне хотелось бы…»
Поэтому официальный Запад, надо полагать, до сих пор (!) не признаёт (якобы не понимает) величия русской поэзии – Пушкина. И Лермонтов в Европе проходит по разряду Байрона. Поэт как бы номер два. (Из великих русских прозаиков только Чехов уныло укладывается в рамки английского здравого смысла. И то не целиком.) Божественные серафические ноты в гармонии Лермонтова (даже в прозе его, в «Тамани» они слышны), и целые его, совершенно божественные по звучанию и смыслу стихи, например, «Молитва» («Я, матерь Божия нынче с молитвою…») – неоспоримое свидетельство того, что русский поэт забирает повыше их благородного лорда. И значит, есть у автора «Мцыри» не только демонические, но и ангельские звуки. Кто бы сомневался! «В дверях Эдема ангел нежный…» А Лермонтова трудно заподозрить как в религиозном (любом ином) конформизме, так и в отсутствии индивидуальности Байроновского масштаба. А это опять же означает не только отщепенство. Но и то, что упомянутая Томасом Манном святость (светлость, просветлённость) могут быть свойственны творческой индивидуальности, являющей себя во всеохватном русском искусстве слова.
В русской поэзии, прежде всего, в изящной словесности.
И умница Томас Манн это уловил! Оценил он это вместе с высочайшим гением всей творческой Европейской цивилизации, с «поэтом поэтов», с Райнером Марией Рильке. Австрийский стихотворец просто поклонялся России и духу русской культуры, её языку. Рильке приезжал в Россию и даже специально учил русский язык. А свой стихотворный сборник «Часослов» написал (что видно из писем) благодаря посещению литургии в православной церкви во время празднования русской Пасхи. Русская Пасха – в великих немецких стихах! Это – простые, общеизвестные факты, но за ними стоит Небесная Россия, её метафизические острова и вечная, глубинная Русь. Её широта, поэзия, культура в целом.
3
А теперь, читатель, вернёмся к замечательным стихам Салавата Вахитова. Они, к чести автора, далеки от хайпового стиля жизни или противного пиара. Они даже не укладываются вполне в социальные сети «современной» массовой культуры. Салават Вахитов не очень-то походит на помешанного на технике современного «идиота», бешено скачущего от Ютуба к Дзен-каналу, осваивая по пути, на всякий случай, запасную, ещё более выгодную цивилизованную площадку. Нет, это нормально сегодня.
Благо, канальцы возникают следом один за другим стремительно, мелькая электронным горохом до ряби в глазах, принося основателям мгновенную пользу. С поспешностью, с которой ловят блох, или снимают плохие фильмы, гороховые лица что-то постоянно изображают, давно перекрыв все возможности простого человеческого понимания. Порой ощущение, что всё превратилось в рекламу и самопиар. Оно, конечно, ложное, есть ещё лица, с редким, не экранным выражением. Или мне это только кажется? (Я и себя-то уже не различаю в зеркале, хотя и вижу отражение.) Массовое мелькание всего на свете навязчиво, недобросовестно, мелко, попросту агрессивно.
Смысловая «глянцевая» рябь и прелесть ещё долго не оставляет вас. Вот как надо жить! – нескромно вдалбливает она вам. В этом сила низкопробной всепобеждающей армии шествующего во сне и наяву виртуальными (или реальными?) площадями массового искусства. Но стихи Салавата Вахитова, к счастью, не об этом, и они – штучный товар.
4
Они об одиночестве бедного художника слова в мире, о его недорогой жизни в нём. О его дешёвой смерти в дорогостоящем мире обесцененных ценностей. Стихи о том, что только со смертью открывается вся поэзия жизни. Алмазы, они – за нарисованным на холсте домашним очагом, давно остывшим. Остыла и фальшивая любовь бывшей ненастоящей женщины, предавшей всуе Имя и променявшей светлячков Ночи на банкноты для своего возлюбленного кошелька. Она, электрическая кукла архаического мира, вольна превратить пылкого поэта в холодного философа-циника, обречённо бредущего к ней по знакомым улицам для очередного своего, отнюдь нефилософского, ритуального кровопускания. С неизменной жертвенной мензуркой в укромном кармашке – у самого бедного сердца бывшего поэта. В бреду бредёт остывающий философ. Он мечтает втуне, как свалит от постылого уклада и злой неизбежности, от идолов рода куда-нибудь на Таити, как сделал некогда Гоген. Простой прежде банковский служащий. Удрать весело к дикарям, чтобы творить и умереть на острове, когда придет, наконец, твой счастливый звёздный час. И пусть эта смерть случится не от сифилиса в эпоху антибиотиков. Но произойдёт она пусть непременно в ясный и светлый полдень и при полном штиле. Слышите вы! – непременно при полном штиле и в ясный, светлый и ясный день.
И может быть тогда хотя бы смерть не будет похожа на электрическую куклу обманувшей философа повседневности, остудившей поэта до коммерческой температуры искусственного всеведения. А там, на кладбище снов, мёртвого поэта-сына, ещё живого философа встретит приветливо его отец. О, отец! Тебя так не хватает мне в этой обкраденной чужими желаниями собственной моей жизни! Побудь со мной, отец, хоть в моей смерти, в которой я побуду с тобой в твоей посмертной жизни, о, мой отец... И можно я немного поплачу, отец? Ведь механическая кукла небытия никогда не позволяет мне делать того, чего так желала бы моя бессмертная душа. Так никогда, что я порой не отличаю от электрической ведьмы повседневности своей божественной души, отец. Но почему ты смеёшься, отец?! «Расскажи о себе, не о детях» – верно ли я расслышал тебя, отец? Мне страшно, отец, неужели завтра звуки твоего голоса снова превратятся в пустые слова и фальшивые бриллианты? В капли холодной крови для позлащённой мензурки, приличествующей ритуалу жертвенного кровопускания и умиранию животворящей души?
Верим, однако, что не превратятся, читая замечательные стихи Салавата Вахитова.
_____
*Хайп (от англ. hype – «шумиха») – агрессивная и навязчивая реклама, целью которой является формирование предпочтений потребителя. Название её происходит от слова, означающего надувательство, обман или трюк для привлечения внимания. Это же слово может использоваться в адрес человека или бренда, популярность которого пытаются раздуть искусственно.
Алексей Кривошеев
Прикинусь тихоней
Прикинусь тихоней
В необитаемом городе.
Но сначала
Стрясу алмазы
С макушек лета –
Пусть мечутся
В ночи сверчками,
Потрескивая, как дрова
В очаге домашнем.
Всуе ты
Имя поносишь,
Женщина, свободная с самого рождения.
Как херувим, потерявший крылья,
Смотрю безмолвно –
Холодный философ.
От суеты
Слиняю на остров, на южное море,
Где плещутся краски Поля Гогена.
Таити в Таити симптомы боли
В мотивах Бреля и Джо Дассена.
Гарсон пожилой
Подаст кофе со сливками,
А мне бы
Заказать штиль со звенящим солнцем,
С колыбельным прибоем
Средь ясного дня.
Средь ясного, светлого дня.
Восвояси
Обсыпавшись пеплом
Давно отгоревших закатов,
Сквозь холодную полночь
Во мрак отошедших годов
Прохожу в мир теней.
Там кладбище снов раскинулось.
В сокрушении и в покаянье
Стою, понурив голову.
Жду,
Когда выйдет отец навстречу.
И он спешит с улыбкой всегдашней весёлой,
Мой отец.
Радуется, когда я прихожу,
Обнимет сейчас тяжёлой рукой, шершавой.
А мне пора сказать что-то,
Пока скорбь не стянула губы
Грубыми стёжками вечной иглы.
Конечно, не успеваю,
Стараюсь удержать в себе слёзы,
И в них тонет сердце.
«Прости, – говорю глазами. –
Прости. – Обнимаю взором. –
Двадцать лет не видался с тобой».
«Двадцать четыре, – смеётся он виновато. –
Годы словно двадцать четыре часа.
Будто вчера ждал тебя,
Намаявшись на сенокосе.
Как там дом?
Расскажи о себе и о детях».
Жадно
Ловлю родной голос,
Бережно вбираю звуки. Как книги,
Раскладываю по полкам сознанья.
Завтра приду в библиотеку
И вновь превращу их в слова.
«Папа, – говорю, – видишь,
Я старше тебя. Что делать?
Плешивая луна серебрянкой
Покрыла ограду волос.
Несправедливо,
Коль дети старее отцов.
Ведь правда?»
Он делается серьёзен –
Улыбка заходит за тучу.
Становится ясно – бестактным,
Мальчишески глупым вопрос был,
Беспокойным квартирантом вселившийся
Год назад в мою голову.
Возвращаясь, думаю, если
Научен ничтожные звуки
Превращать и в слова, и в мысли,
Должен был сам догадаться:
Старость и возраст по сути
Совершенно разные вещи.
Вот так и иду восвояси.
Игра
Прощальный вечер мечет баламут,
Но дама треф рутирует на диво.
Как часто счастье мимо проходило,
И всё же стоит свеч азарта зуд!
Атанде! В муке руки карту гнут,
Летят понтёрки с горечью правдивой,
И в новый абцуг, улыбаясь криво,
Сдаёт опять плие картёжный плут.
Наверняка бьёт нервная усталость:
Была игра – в колоде заметалась,
И нужен выход. Выхода всё нет.
Тогда ва-банк удариться с подъёмом!
Но дерзким, ловким шулерским приёмом
Навек убит отчаянный валет.
Шулерская
Осень нерешительно дометала талию,
И за дело принялся белый банкомёт.
Я же на зелёном поле обитаю,
Мне в проклятых картах всё ещё везёт.
Чёрные арапы дружески-угодливо
Смотрят хитро в руки злого визави.
Вроде не уродливый, вроде не юродивый,
Я б к тебе вернулся, только позови.
Не могу позволить я выразить отчаянья,
Не ищи в глазах моих ни радостей, ни бед.
Я цинично холоден, строг и непечален,
И готов разделать всех строго под лабет.
И в разлуку, милая, до сих пор не верю я,
С тайною надеждою всё сижу в вистах.
Бог ты, парадокс ты мой: чтоб вернуть потерю,
Я продуюсь начисто, право, в пух и в прах!
В доме пустом
В доме пустом пустые шкафы разинули рот,
Голодно смотрят злобным смешком холодных зеркал.
Нет тебе дна, нету покрышки, нет и хлопот.
Что ж удивляться, если всё это предвидел и знал?
Знал, постучится в раскрытые двери слепой почтальон,
Знал, занесёт тебе похоронку нелепой войны.
Здравствуй, приятель, ты был безжалостной ночью рождён.
Разве не страшно в дом приносить ощущенье вины?
В доме пустом завешены окна, света в них нет,
Света в них нет, значит, настал отпущенный срок.
Смысла в них нет, как от пустых рекламных газет,
Где не найти даже простых пронзительных строк.
Это не важно, кто первый обидит и первым уйдёт.
Лишь бы упрятать во взгляды прохожих нечаянный стыд.
Листьями осени ветер смятенье уймёт,
Дождь всепрощенья, возможно, и это простит.
Чёрный лебедь
Я любил смелые мысли
И не знал, что их надо бояться,
Как боятся прохожие овчарку немецкую,
Даже если на ней намордник.
(Я и собак не боялся,
И оттого они теряли ко мне интерес.)
Я любил дождь,
Мне промокнуть казалось здоровски весело.
Колян из соседнего дома ругался,
Что легко подхватить
Воспаление лёгких.
Он и подхватил – и умер
Неожиданно и бесповоротно.
Меня это потрясло,
Но, увы, остался беспечен.
Почему б не посидеть в кафешке
С изголодавшейся женщиной? –
Радовался я и был счастлив.
Счастливым людям надо
Быть чуточку осторожней,
Что ли.
Когда прилетел Чёрный лебедь,
Я был беззащитно хрупок.
Пытался взять себя в руки
И поднять высоко в небо.
Лебедь клевал клювом
И крыльями бил больно.
Я закрывался руками и шептал в отчаянье:
Меня беспокоит лишь волос
В твоей правой ноздре.
Выстриги его, пожалуйста!
Подготовил Алексей Кривошеев
