-7 °С
Облачно
Все новости
ПОЭЗИЯ
30 Сентября 2020, 16:20
Пахнет безотцовщиной и газом
Слава Хэйт (Марчуков Вячеслав Димидович) – поэт, автор текстов и фронтмен музыкальной группы «youhate». Родился 26 августа 1995 года в селе Плешанове Красногвардейского района Оренбургской области. Резидент литературного объединения «Декадент», участник различных концертов и фестивалей в Москве, Санкт-Петербурге и Оренбурге.
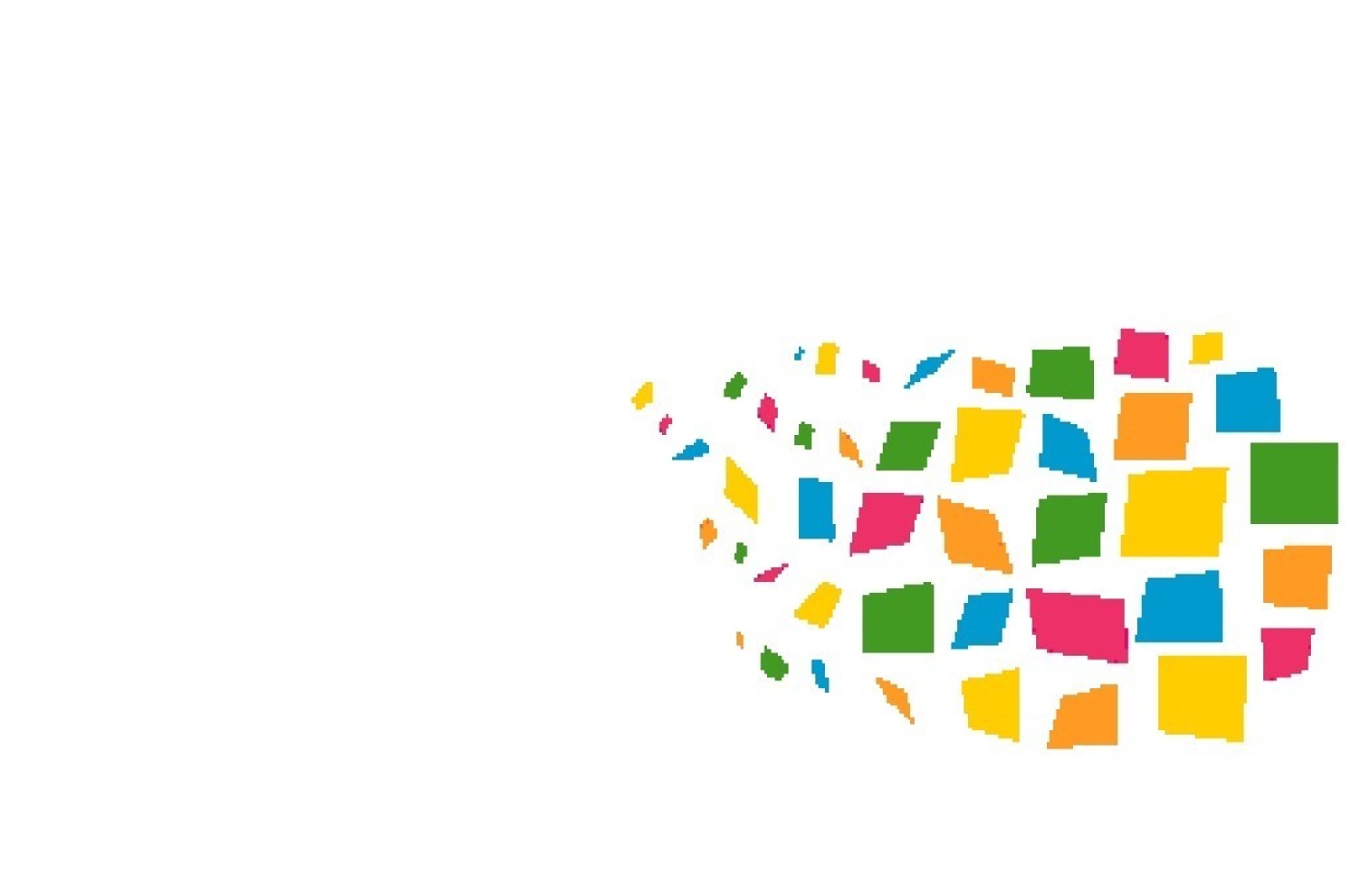
Когда «пахнет безотцовщиной и газом», тогда атрибутами Бога становятся «обвисшее брюхо» и «красная морда», ничего не поделаешь. И славный «старик Буковский», мало что американец, а добрёл-таки и до русских, родимых осин. И заглянул на свой хулиганистый манер в стихи Славы Хэйта, отразившись в них этаким вольным оренбургским степняком-селянином. И нельзя сказать, читая стихи Славы Хэйта, что это натурализм как международный стиль побеждает сегодня в молодой русской поэзии. Скорее уж это природная или языковая искренность и правдивость русской поэзии танцует свою музыку и не соглашается выдавать кем-то желаемое за действительное. А нравится ли ей устаревший европейский позитивизм, не оправдавший себя художественно, или глобалистская продажность века нынешнего – это ещё вопрос. Только видно, что не желает русская поэзия, как повелось от века, игнорировать человеческую боль, замазывая её толстой масляной краской показной казённой благонамеренности и центростремительного благополучия, минующего периферию. Народные окраины болят. И где искать ей – молодой, становящейся, крепчающей сегодня поэзии – если не утешения, то внутренней для себя поддержки? Не у вольных ли битников, отвязных рок-Н-рольщиков и честно отшумевших великих «неудачников» всех времён и народов? И Чарльз Буковски Славы Хэйта, папа Бук, не самый последний пример в этом чудесном ряду.
Ведь пока великий алкоголик не пришёл к полной бессмысленности для себя всего происходящего вокруг и абсолютному (безличному и тупому) абсурду и не назвал «Макулатурой» (последний роман Буковски) дело всей своей жизни, он ещё крепко держался на ногах и радел за непродажность и величие своего художественного стиля. И не без оснований. Но Американский отчуждающий человека прагматизм, голое потребительство и алкоголь (алкоголизм Чарльза Буковски) – главные орудия того бездушного общества чистогана и наживы, которое Буковски всю жизнь искренне презирал, под конец всё же сделал и с ним своё, размывающее «серое вещество», чёрное дело. Не помогла и вера, которой у Буковски не было. И «папаша Буковски» стал сильно повторяться и вырождаться, отвечая невысокому массовому спросу и вкусу, пока вконец не заездил несколько своих творческих и популярных тем и мотивов, неизбежно утративших глубину. Первоначальную свежесть, искренность и выразительность, принесшие ЧБ заслуженное некогда признание мирового читателя. А до этого была длинная бессмысленная жизнь «алкоголика на дне» – самое страшное и, возможно, и не нужное (не нам судить), неизбежное, как всякое зло, испытание для интеллектуала и свободного художника слова. Это, конечно, была болезнь, которую не выбирают ни умные, ни дураки.
Но пока в стихах Славы Хейта есть острота, молодой задор и «Синее небо», которое пьют (не напьются) голуби, отгоняющие крылом смерть – есть и путь, который может быть долгим, и смысл у этого пути. А значит, есть и поэт, и живая надежда у поэта.
Алексей Кривошеев
Пахнет безотцовщиной и газом
* * *
Голуби над селом
Врезаются прямо в Бога.
В его обвисшее брюхо.
Голуби над селом
Прячутся от налогов
И дурака-главбуха,
От предвкушенья войны
И болтовни нелепой,
От стопочки от штрафной.
Ты странные видел сны,
А голуби пили небо
Синее, как Лёвенброй.
Содом на канале втором.
Закладки ищут студенты.
Геолог сдаёт медь.
А голуби над селом
Всё рвут облака на ленты,
Крылом отгоняя смерть.
* * *
Дождь волдырями бил по мелким лужам.
Мейкап стекал твой в сточную канаву,
Но почему-то не убавил красоты
Твоей сей казус. И я был обезоружен.
К тому ж, ты явно с белым платьем угадала:
Нам улыбались даже встречные менты!
Я, выпив колы, что разбавлена недурно,
Повёл тебя на фотовыставку подруги.
Зашёл, как говорится, с козырей.
Мол, вот такой я импозантный и культурный;
Не матерюсь, не распускаю руки.
А распустить хотелось поскорее!
Потом мы двинули, как водится, к Уралу.
Из каждого авто гремели новые хиты,
И мы синхронно морщились по-снобски.
Ты вглядывалась в лица цыганья и нелегалов,
Сплетала бисер слов без лишней суеты.
Эх, был бы жив сейчас старик Буковски...
Как будто с пивом опрокинутая кружка.
Ночь подбиралась к нам торжественно-немая.
Лишь вдалеке пьянчуга пел своё старьё,
А мы застыли в парке том, где Даль и Пушкин
На нас смотрели, по-отечески кивая.
* * *
Пахнет безотцовщиной и газом.
Дождь сбивает ржавчину с оградки.
Бог немного поиграет с нами в прятки.
Явится под вечер с мордой красной.
Жизнь от потасовки до получки,
От спидов до шкафчика с Икеи.
Все мы скурвились и постарели,
Когда сизые сгустились тучи.
Только совесть, скрючившись в ночи,
Заскулила псом оголодавшим,
Что грызёт свою же лапу, даже
Не оглядываясь, если кто кричит.
Эта мерзость, как её ни назови,
Лезет в грудь, минуя мамину заплатку.
Но впиваюсь я сапёрною лопаткой
В мёрзлый чернозём твоей любви.
* * *
Две газовые камеры – глаза.
А скулы – две заточенных катаны.
Ты раскрываешь нежно чьи-то раны,
В них заливая жидкого свинца.
Но толпы местных франтов и трудяг
Под окнами твоими воют так же...
Протяжно и тоскливо, словно банши.
И всё чего-то большего хотят.
А руки в кровь от струн. Неровен час,
Тебя не в силах видеть наяву,
Очередной нескладный ловелас
Подбитым вепрем упадёт в траву.
Ты ведьмою в котёл кидаешь звёзды!
Ты рада, что мой город осаждён!
Но твои редкие, чуть видимые слёзы
Меня смывают ядерным дождём.
Слава ХЕЙТ
Подготовил к печати Алексей Кривошеев
Выбор редакции
Новости партнеров
