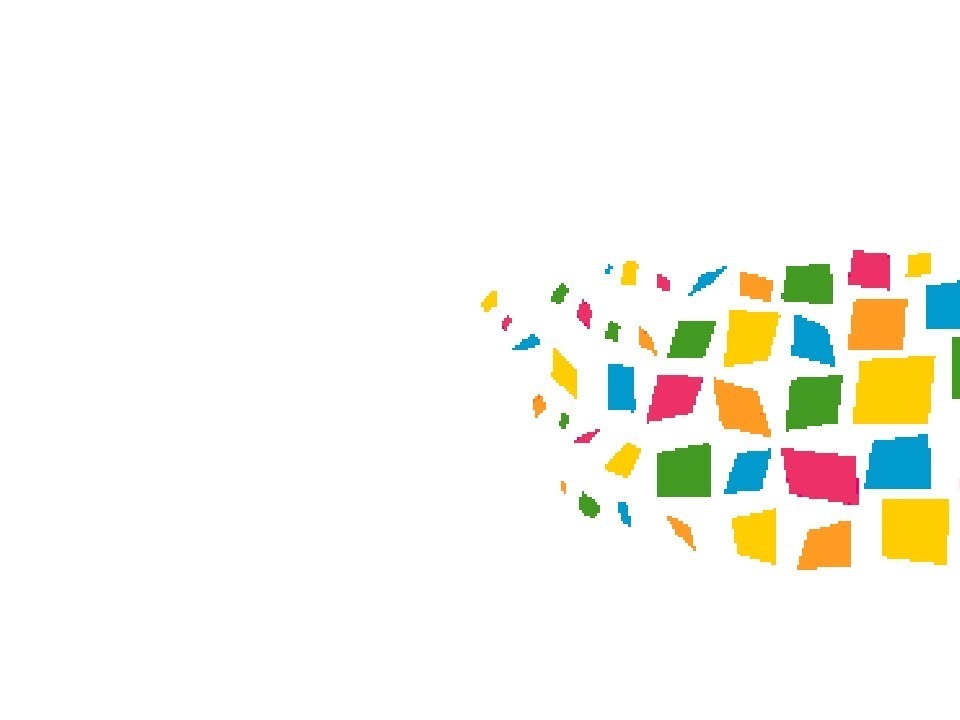Ветер, вей! Часть первая
В марте писателю, поэту и издателю Александру Глезеру могло исполниться 90 лет. В память о нем публикуем очерк Иосифа Гальперина.
Он встал как-то в полупрофиль, приподнялся, кажется, на цыпочки, напрягшись всем своим небольшим телом, свел глаза к дальней невидимой точке фокуса и стал читать: «Ветер, вей, ветер, вей, ветер, вей…». Отбивал ритм не только взмахом руки, но и ногой, к концу маленького стихотворения лицо его стало красным. Саша Глезер гордился этим переводом Галактиона Табидзе, стих и вправду получился безупречным, четким и музыкальным. За это можно было простить километры других переводов, которыми он кормился. Переводил с разных языков, и талантливых авторов, и просто указанных членов СП, сам писал мало…
Я не нашел этого перевода в интернете, в книжке Глезера 1994 года у меня на полках среди сотен поэтических сборников он есть, я хорошо его помню. Зато интернет приводит этот стих классика Табидзе в чужих переводах, не всегда ладных, но кудрявых, заодно и кучу других песен и стихов, в которых есть подобные строчки, куцые хиты неведомых мне групп с тысячами посещений. А мне-то что! Разве я подписался верить Яндексу больше, чем себе? Разве меня интересуют чьи-то пристрастия (а то и реклама) к попсе? Я ведь не справку пишу, чтобы железные ссылки делать, а воспоминание о дорогом мне человеке, полвека с лишним я (иногда и без его внимания к этому) был с ним связан. По крайней мере, поэзия стала мне интересной, а потом и главной в жизни, после встречи с ним.
Автограф Ахматовой
В Википедии указано: поэт, переводчик, издатель. Да поэт он, если всерьез, был не ахти, хотя в отдельных строчках выразил нечто общественно-важное, но вот историческую роль этот частный человек сыграл. Википедия, хоть и знает всё, как Дмитрий Быков, не отметила его роли в развитии российской журналистики: создатель и редактор одной из первых в перестройку крупных частных газет. А к Быкову я еще вернусь…
Ну так о печати. Но сначала надо восстановить контекст, чтобы понять, кем в глазах провинциального уфимского подростка был Алик (Сашей он стал называться после приезда из французской эмиграции) Глезер. В начале 60-х я совершенно не собирался в журналистику, но пристально вглядывался в молодых людей, по возрасту близких героям «Звездного билета», «Продолжения легенды» и других повестей из «Юности», стараясь понять, что ждет меня через несколько лет, хватит ли у меня сил, чтобы стать такими, как они. Нет, я не мечтал о конкретных достижениях, я искал примеры доброжелательной независимости, отмечал яркость. Фыркал от штампов, да и просто от несовпадения пацанячьего ожидания с реальным поведением! Впрочем, гости отца могли ведь и не догадываться о моих критериях… Поскольку отец работал в молодежной газете, то и молодые люди, приходившие в дом, были или штатными журналистами, или авторами.
Поэт Газим меня разочаровал, поскольку был в ярко-зеленом костюме и никак не мог продолжить не только разговор на интересующие меня темы, но даже и шахматную партию: все время ронял фигуры под стол. И этот запах! Я тогда не разбирал алкогольных нюансов. Зато наш сосед по двору на улице Кольцевой, Володя, меня очаровал. Он так иронично поджимал губы! Высокий, крепкий, как Столяров из кино, был самым печатающимся из стажеров «молодежки», вдобавок писал стихи. Ну и, конечно, судя по разговорам взрослых, его любили девушки.
А вот Алик Глезер печатался в газете редко, был щуплым, хотя и постарше остальных, даже женат уже во второй раз — на знаменитой шахматистке Алле Кушнир. Не знаю, заметил ли он мое напряженное внимание или просто хотел понравиться отцу, но как-то перед отъездом в Москву, где он жил постоянно, подарил нам маленькую пластиночку. На ней Вознесенский читал свои стихи, немного, несколько штук. Я быстро их запомнил наизусть и понял, что стихи — это не часть школьной программы. Это настоящая главная жизнь. И стал их искать, в той же «Юности». Ветер, вей!..
Я и сейчас могу прочитать по памяти стихи с этой пластинки, помню даже, как она ложилась в руку, а потом с помощью специальной насадки — на никелированную шишечку проигрывателя. «…Ее серьга в сенях забрезжит, глаза, как рыбины, заблещут…» — читал я чуть позже девушкам, дескать, понимаю я ваши нужды и сочувствую. А недавно у постели перенесшего инсульт товарища, ища, как его поддержать перед ударом судьбы, как напомнить хорошее, что было в нашей юности, как просто пробудить в нем память, я читал: «Судьба, как ракета, летит по параболе…» Не знаю, добавили ему сил эти строки из прошлого, но я, читая их, вспоминал, как они с Глезером темпераментно обсуждали современную поэзию…
Алик приехал в очередной раз, принес отцу заметку о столичной культурной жизни, в ее подкрепление — автограф Анны Ахматовой. Поскольку Ахматова не была автором «Юности», то разделить трепет Алика я смог только после его небольшой лекции. В подкрепление сведений и цитат я получил доступ к переписанным собственноручно Глезером сборникам мужа Ахматовой — Николая Гумилева. Одни названия чего стоили: «Жемчуга»… И это тот самый Гумилев, от строчек которого, прочитанных противником красных в фильме «Оптимистическая трагедия», я замирал не меньше, чем от героических высказываний Комиссара с выдающейся фигурой Маргариты Володиной!
В результате как-то получилось, что мальчик стал видеть борьбу одной культуры, насаждаемой, с культурой другой, пробивающейся, более того, находить в насаждаемой части очень привлекательные побеги запрещенного. «Те, кто бунт на борту обнаружат, из-за пояса рвут пистолет, так что золото сыплется с кружев розоватых брабантских манжет…», против этой крепко сколоченной красоты ничего не могла поделать крепко сколоченная красная комиссарша! Так благодаря Алику Глезеру еще ближе стала та часть культуры «Юности» и «Нового мира», которая не старалась отделиться от культуры «самиздата», а потом и «тамиздата». И стали понятны строки из рукописного Мандельштама о том, что поэзия — «ворованный воздух». У кого именно — ворованный. «…ветер, вей, ветер, вей! Ветер воет…»
В своих заметках по поводу сериала «Таинственная страсть», слепленному телеиндустрией по не самой лучшей книге Василия Аксенова, упомянутый выше Дмитрий Быков предъявил счет всему шестидесятничеству, всей культуре 60-х годов. Будто бы она исчерпывалась модой и дозированной фрондой, будто бы в ней не было Владимира Тендрякова, Павла Нилина, Александра Солженицына, будто бы именно в эти годы не пришли к нам Булгаков и Платонов, Варлам Шаламов и Арсений Тарковский, будто не из этих лет выросли Шукшин и Стругацкие, Федор Абрамов и Владимир Маканин, Александр Галич и Владимир Высоцкий.
Перечисления ничего не доказывают? Тогда скажу проще: золотые слитки слов, поэзии и прозы, в разное время стоят по-разному. В голодные времена и последнее пальто меняли на хлеб, а после войны, после сталинщины люди были голодны на живое слово, на сочувствие, на самобытность. Оттого и «Берегись автомобиля!», и «Бриллиантовая рука» были смехом над старыми схемами, над пропагандой «осажденного лагеря». Пусть они казались наивными, а молодежная часть этой культуры — слишком романтичной, но ведь и «Страдания юного Вертера», взломавшие мировую парадигму, Быкову XIX века представлялись пустыми и надуманными. Романтизм повышает цену личности, индивидуальной свободы, а тогда это было крайне необходимо…
По большому счету, предъявлять временнЫе критерии к явлениям культуры — лукавое дело. Что останется в вечности, мы не знаем, но помним, пока живы, что на нас повлияло и в какое время. Если уж попытаться определить смысл и вес отрезков общественной жизни, уроки кусочка времени, то стоит говорить не только о его топ-фигурах, но и о наиболее характерных его выразителях. Вот поэтому — о шестидесятнике Александре Глезере. О его движении от 60-х годов ХХ века ко второму десятилетию века следующего.
Начал он это движение выпускником бакинского института. В этом городе он когда-то родился, потом его семья влилась в бакинскую диаспору, создававшую нефтяную Башкирию. Может быть, от стиля отношений прежнего Баку пошли и установки Алика Глезера: уважение к старшим, внимание к поветриям, пусть и не к моде, а главное — артикулированное понятие чести. Я вспомнил об этом, когда в 70-х увидел, что популярный певец Полад Бюль-бюль оглы взял в свой концертный коллектив саксофониста Габриеляна, с которым когда-то учился в одном классе, а потом случайно на гастролях встретил — безработного, опустившегося. Не знаю, как потом относился министр культуры независимого Азербайджана Полад Бюль-бюль оглы к своим прежним армянским друзьям…
Но запомнился Глезер не инженером, а автором популярной в Уфе газеты. Аксенов вон тоже медицинский кончал, а Вознесенский — архитектурный, это вообще был тренд 60-х: из технарей в гуманитарии, хотя Слуцкий (тоже феномен «оттепели», неучтенный Быковым, из молодых фронтовиков, как и Винокуров, Межиров, Самойлов) чуть позже написал: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне…».
Видимо, это стихотворение — обида на снижение уровня популярности, который у поэзии был явно выше физики до того, как проза (в первую очередь как раз недавние «перебежчики» из технарей, Гранин, например), кино и массовая культура в целом после полета Гагарина в очередной раз в СССР обратились к достижениям науки. Эпоха пробуждения от сталинской комы, повторяю, явно в первую очередь нуждалась в слове, и поэтическом, и прозаическом. Само слово «оттепель» пошло от названия скромной повести Ильи Эренбурга. А физика — думаю, появилось стремление общества опереться на что-то непреложное, материальное, не зависящее от идеологии. До того популярность поэзии, кроме прочего, и привлекала амбициозную молодежь, типа Алика Глезера.
Продолжение следует…