0 °С
Снег
Все новости
ЛИТЕРАТУРА
27 Июня 2021, 11:30
Поэт и власть
Наверное, не будет ошибкой утверждать, что самыми теплыми, искренними, глубоко человеческими были отношения между М. Каримом и З. Нуриевым.
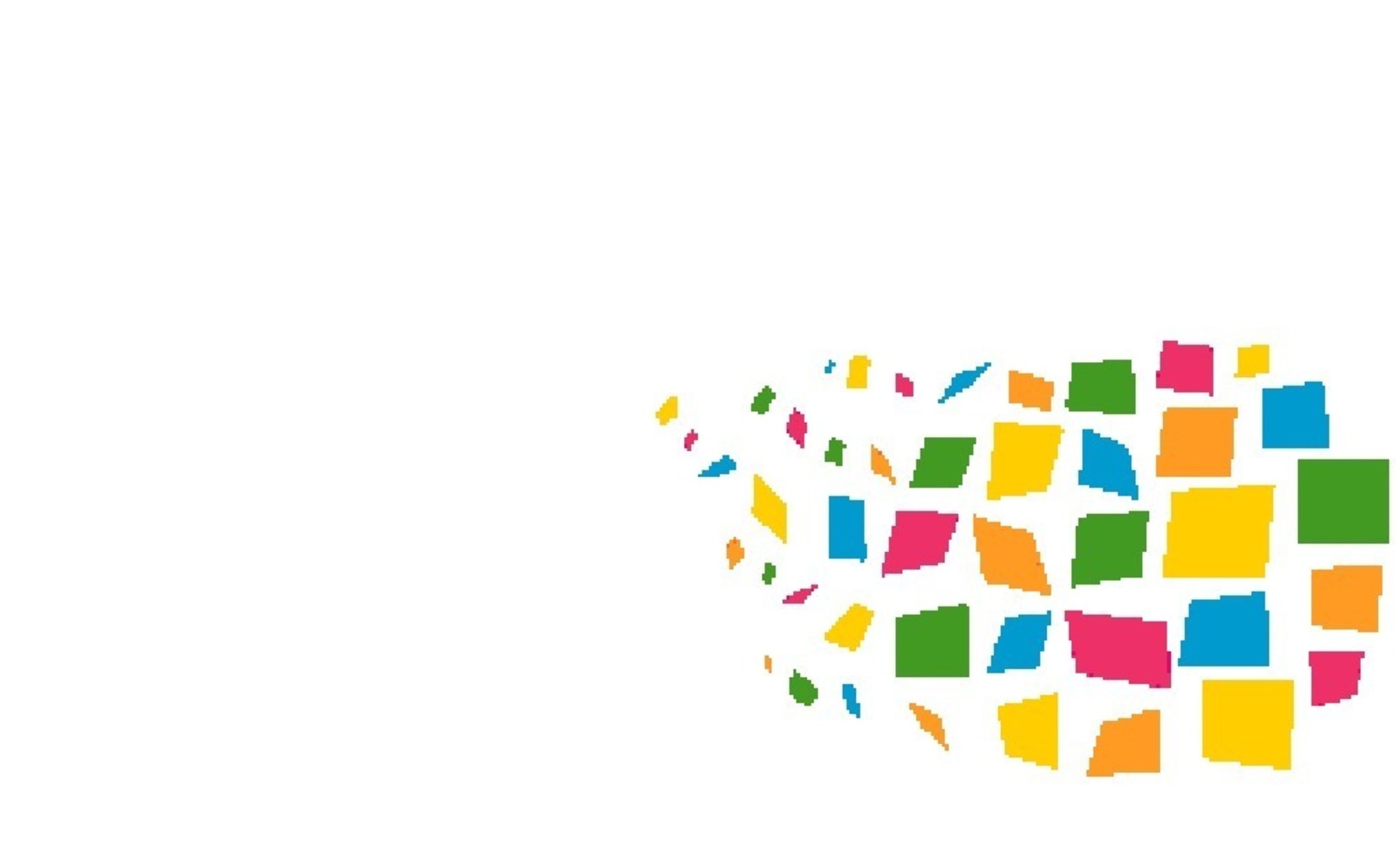
«Мы стали с Мустаем друзьями после моего назначения на должность первого секретаря Башкирского обкома КПСС в 1957 году, - вспоминает Зия Нуриевич, - а через год он подарил мне свою книгу, держу ее с тех пор рядом с Пушкиным». А в упомянутой книге имеется надпись, датированная 28 июля 1958 года: «Ты оседал строптивого коня! Дай же силы твоему телу, рукам твоим его удержать! Дай бесконечного вдохновения твоей голове, душе».
М. Карим был очень высокого мнения об этом своем друге. «Излишне доказывать, - писал он, - что Зия Нуриевич Нуриев был выдающимся руководителем, стоявшим во главе своего народа, а не просто первым секретарем обкома партии… Аксиомой является и то, что мелкий человек с дробным характером не может стать крупным деятелем, даже занимая высокие посты. Нуриев же был щедро наделен от природы: гибкий ум, неиссякаемая эмоциональная энергия, прозорливость, широта взглядов, которые проявлялись в масштабных решениях и действиях. Смекалка и удивительное чутье в повседневных делах».
Зия Нуриевич, как отмечает поэт, не носил в себе ненужного груза никчемных обид, не говоря уже «о какой-то затаенной мелкой злобе на кого-то… Его душа свободна от наносного, суетного, поэтому там просторно для созидательных помыслов. Этому человеку свойственны властность и детская доверчивость, мудрая чинность и какая-то мальчишеская спесь. В этом притягательность его личности. Ему принадлежит еще одно важное свойство, весьма необходимое для большого деятеля: умение слушать. Он внимательно и терпеливо слушал и неторопливых, нудных вещателей, и задиристых, непокладистых спорщиков, лишь бы те и другие знали дело, болели за него. Я неоднократно присутствовал при таких беседах. Нужно сказать, он почти не вступал в полемику с теми, с кем не согласен. Не спешил парировать или вразумлять их. Для него важно выслушать иное мнение. Потом, мол, сам разберется. Поразительно то, что он, школьный учитель по образованию, сельскохозяйственный специалист по роду занятий, имел основательные познания и суждения по различным отраслям экономики, науки, культуры. Ибо слушал и прислушивался к мнениям и советам профессионалов. А делать обобщения и извлекать практические выводы он умел отменно».
Он умел еще быть другом. Без спеси и чванства. Поразительный по своей человечности пример на этот счет находим мы у Мустая Карима.
В те годы, когда работал З. Нуриев в Башкирии, в разные места выезжали государственные делегации. Так, одна из таких делегаций, которая выезжала в Казань по поводу 40-летия образования Татарской АССР, состояла из четырех человек: З. Нурив, работница УМПО Герой Социалистического Труда Любовь Волкова, композитор З. Исмагилов и Мустай Карим. Вот тогда в характере Зии Нуриевича одна черта запомнилась поэту невсегда.
«В последний день праздника, – вспоминал М. Карим, – Любовь отправилась по своим делам, а мы трое поехали в деревню Кокушкино, известную тем, что в юности там, в имении дедушки, жил Ленин. Но было у нас с Загиром неисполненное обещание, оттого и на душе скребло. Накануне вечером позвонил Наки-агай Исанбет. “Хоть на минутку загляните, только порог мой переступите”, - сказал он. Когда сели в машину, я сообщил об этом нашему руководителю. “Обещания нужно выполнять. Наки-агаю следует оказать уважение”, - сказал тот. Я сообщил шоферу адрес. В общем, и крюк небольшой. Приехали, но Зия Нуриевич выходить не стал. “Если я пойду, - говорит, - надолго затянется. Вы идите, поприветствуйте его, посидите минут 15–20 и возвращайтесь. Что я здесь, не говорите, иначе Наки-агай так просто не отпустит”».
Как гости вошли – и время забыли.
«Разве, - продолжает поэт, - от всех вкусных угощений Гульсум-апай хоть понемножку не отведать? Около часа прошло, когда мы наконец сообщили Наки-агаю, что направляемся в Кокушкино и что в машине нас Зия Нуриевич ждет. Агай на нас крепко обиделся, от чувства неловкости перед высоким гостем даже провожать нас не вышел. “Ну, Ходжи Насретдины, - сказал Нуриев, - оказывается, вам на шею часы повесить надо было. Ладно еще хоть в каком-то порядке оба”. Голос спокойный, упрека или раздражения нет. “Так ведь хотели, чтоб вы отдохнули перед дорогой, вот и тянули”, - пробормотал я, не найдя других доводов в оправдание.
Ну а совершенные умы к бестолковым обычно бывают снисходительны и великодушны».
Мустай Карим предупреждает, что он не пытается создать идеальный портрет безупречного руководителя. «Во-первых, - писал он, - это не моя фантазия, а вполне достоверные факты, относящиеся к реальному человеку. Во-вторых, такие люди не тонут в мелочах и всегда в силах побороть собственные ошибки, не перекладывая их на других. Не лишен, наверное, человеческих слабостей и Зия Нуриевич. Но я не ставил цели в этих коротких заметках все разобрать по косточкам и расставить по полочкам. Он принадлежит своей эпохе, его не миновали озарения и недуги времени, он не был свободен от некоторой внутренней раздвоенности. Подчиняясь официальным оценкам тех или иных явлений, действий высоких инстанций, он ко всему имел свое отношение, свои суждения. Однажды я его нашел крайне удрученным. Со мной он был откровенным. “Позвонил, - говорит, - Хрущев. Требует невыполнимых обещаний. Перечить бесполезно. Упрям и беспардонен. Отделался брехней. А самому тошно”. Это было перед каким-то пленумом ЦК партии. Зия Нуриевич показал мне текст предстоящего своего выступления. В нем шесть раз хвалебно повторялось имя Хрущева. “Почему столько раз? Сам только что назвал его... Давай наполовину сократим”, - говорю. “У других будет намного больше. Там это берется на учет”, - объясняет он. Все-таки оставил только в четырех местах. Вот так-то. Он также не избежал игры “в обожание нового вождя”».
Зия Нуриевич же выделяет гуманистические поступки и деяния М. Карима.
«Трусом, - говорил он в беседе с Г. Ишмухаметовой, - лицемером Мустай никогда не был. Помню, какая непростая сложилась ситуация, когда Хрущев разогнал ЦК. Опальный Молотов оказался в полной изоляции, вчерашние коллеги и друзья боялись даже говорить с ним по телефону. И только Мустай Карим с Расулом Гамзатовым решили его навестить, поддержать. Мустай потом пришел ко мне, рассказал о встрече, а сам спрашивает: мол, как считаешь, правильно ли мы поступили. “Вы поступили по-человечески”, - ответил я.
Вообще Мустай на моей памяти очень за многих заступался. Разумеется, независимо от их национальности и социального статуса. И всегда это делал так нешумно, деликатно, что те, за кого он просил, даже могли не знать о его хлопотах. Одно время накалились страсти в нашем Союзе композиторов, ко мне приходили то один, то другой с жалобами друг на друга. Мустай мне тогда посоветовал поддержать Загира Исмагилова, аргументировал, почему это необходимо. Я тогда к его просьбе прислушался».
«Довольно часто. Вспомним хотя бы споры вокруг места установки памятника Салавату Юлаеву. Деньги в казне никогда лишними не были, что сейчас, что тогда приходилось экономить. Поэтому велик был соблазн поставить скульптуру Салавата на Советской площади или на проспекте Октября перед горсоветом. Однако сам автор памятника Тавасиев и ряд деятелей культуры настаивали на выборе крутого склона Белой, где, собственно, сегодня и стоит памятник. Многих я тогда приглашал к себе в кабинет, просил высказаться. Кто-то откровенно старался угодить начальству, мол, где вы решите, там и поставим, кто-то уходил от разговора, юлил.
Должен честно сказать, я не сразу согласился на склон Белой. Этот проект был очень затратным - надо было снести много частных домов, всем дать квартиры, да и сама установка над обрывом была затеей рискованной и дорогостоящей. Я колебался. Окончательное решение принял после разговора с Мустаем Каримом. Он тогда меня убедил в том, что Салавата мы ставим на склоне Белой на века и есть резон один раз основательно потратиться, чтобы скульптура национального героя заиграла и действительно стала символом Уфы и Башкортостана. Я по сей день благодарен ему за тот совет».
Ильяс ВАЛЕЕВ
Выбор редакции
КОЛУМНИСТЫ
1 Июня 2025, 11:00
Современный сэсен Башкортостана или О вопросах духовной, литературной и музыкальной иерархии в системе тенгрианства
КОЛУМНИСТЫ
21 Февраля 2025, 14:00
От первого лица
КОЛУМНИСТЫ
28 Января 2025, 10:00
Надо ли троллить писателя?
КОЛУМНИСТЫ
7 Января 2025, 11:08
150 НОМЕРОВ…
Новости партнеров
