-6 °С
Снег
Все новости
ЛИТЕРАТУРА
6 Февраля 2020, 13:39
Метаморфозы старого конфликта
«Не пускай шамана в туземный совет!», – лозунг из фильма «Ангелы революции» и один из самых запоминающихся моментов этой сомнительной кинофантасмагории (как бы не напирали Федорченко с Осокиным на историзм и этнографичность своего опуса) – конечно, это ироническая гипербола, но она явственно напоминает, сколь важным для большевиков – для настоящих большевиков – направлением деятельности была борьба с религией и религиозностью, не просто с клерикализмом и церковными институциями, не просто с личной верой отдельных граждан, но с религией как объединяющей консервативной, контрреволюционной идеологией, будь то православие, ислам, иудаизм или языческие культы народов Сибири.
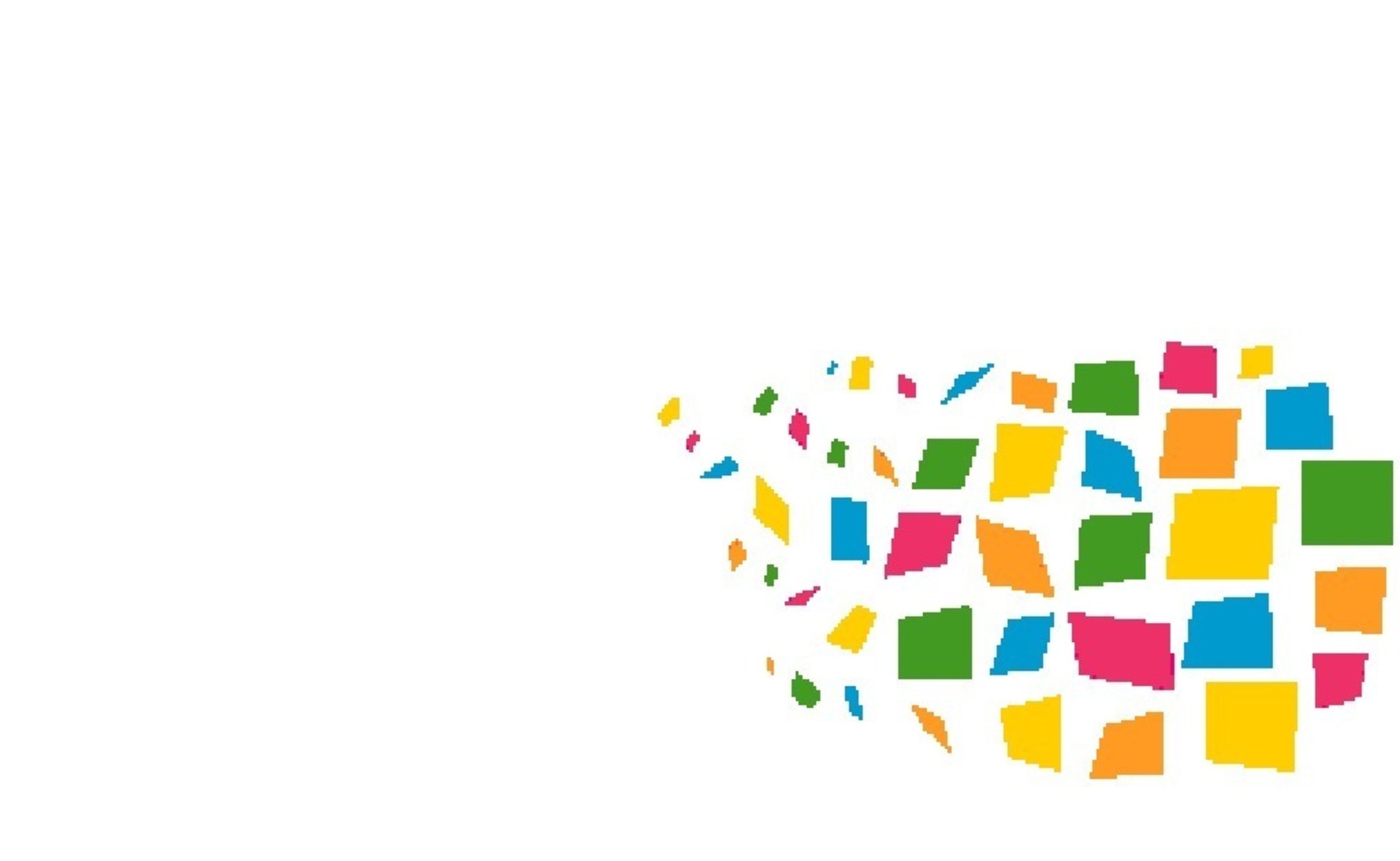
Соответственно, реванш конца 1930-х годов сопровождался массовым, поголовным уничтожением большевистского актива. С исламом, конечно, все чуть менее однозначно, поскольку он для империи государствообразующей религией никогда не являлся, но так или иначе до конца 1930-х, когда империя нанесла ответный удар и большевистская утопия, завязанная на мировую революцию, была окончательно похоронена, башкирский литературный классик Мажит Гафури, имя которого носит национальный драмтеатр и чью позднюю прозу ныне заново инсценирует, по счастью для него не дожил, а не то наверняка был бы обвинен, подобно многим, в буржуазном национализме, и поставлен к стенке.
Я без особого труда отыскал в интернете русский перевод повести «Черноликие», написанной в 1927 году – то есть эта проза вышла в свет в те же годы, что «Разгром» Фадеева (1926), «Зависть» Олеши (1927), «Красное дерево» Пильняка (1929), другие знаковые произведения, если и не напрямую приуроченные к первому десятилетию победы Великого Октября, то, как минимум, обозначающие конфликт «старого мира» с «новым», важнейшую, центральную тему в прозе и вообще в советском искусстве 1920-х годов. Хотя рассказчик и повествует о событиях тридцатилетней давности, стало быть, сюжет разворачивается аж в конце 19-го века, но подается с большой временной дистанции и с точки зрения человека уже новой и прекрасной, как считалось на тот момент, эпохи на эпоху прежнюю, ужасную, безвозвратно ушедшую. Примечателен факт, что эта дистанция в современной инсценировке (ее авторы – Шаура Гильманова и Айрат Абушахманов) отсутствует. Повествование ведется от лица мальчика Гали́, которого по старинке играет актриса-травести. Обучаясь в городской медресе, он получает письмо из родной деревни, из которого узнает о смерти своей двоюродной сестры Галимэ́, утонувшей в проруби, и вспоминает ужасную предысторию ее гибели – любовь, клевету, обвинения в распущенности, побивание камнями по закону шариата, помешательство, изгнание из родительского дома, изуверские «целительные» обряды, прогрессирующее безумие... «Одна из миллионов жертв старой жизни» – так герой-повествователь характеризует свою кузину, а его отец, провожая сына в город на учебу, бросает вслух проклятие встретившемуся мулле. Да и возлюбленный Галимэ́, батрак Заки́р, не просто какой-то парень, а свободолюбивый заводила, лишившийся работы за слишком вольные речи, а объектом наветов молодые стали не только из-за ревности и зависти, без классовой подоплеки и в романтической линии сюжета не обошлось.
То есть повесть, будучи прозаическим повествовательным сочинением, изначально представляет собой благодатный материал для театра, а вернее, для т.н. «национального театра», чьи каноны формировались все в те же благословенные, преисполненные созидательного энтузиазма 1920-е годы. Национальный театр – по сути большевистское изобретение, то есть придумано оно, конечно, национальной интеллигенцией (у каждой национальности российской империи – своей, но практически одного плана для всех, от латышей до якутов), а в повседневную культурную практику внедренное именно большевиками и с целями, разумеется, в первую очередь политическими, педагогическими, то есть идеологическими (где воспитание – там и идеология, особенно если власть берется воспитывать народ), а уже затем, собственно, художественными. Так что понятие «национальный театр» – это не просто «театр» с определением «национальный», это разница качественная, ну примерно как есть писатели, а есть писатели-сатирики, писатели-фантасты, детские писатели, и среди последних могут быть прекрасные, выдающиеся, неповторимые таланты, но все равно по статусу «писатель-фантаст» – это как бы не настоящий писатель, а если настоящий – то он не «фантаст», а просто писатель, даже если пишет фантастику, ну или там стишки детские, или фельетоны. Вот и «национальный театр» – это совершенно особый и вполне конкретный формат, где максимально бесхитростный, доходчивый сюжет предпочтительно «почвеннического» плана (персонажи – простые, лучше если деревенские жители) с ярко выраженной социальной, исторической, классовой проблематикой подается через в большей или меньшей степени искусственный и утрированный фольклорно-этнографический антураж.
Я немало видел такого типа «национальных» спектаклей в молодые годы – не башкирских, не доводилось; но татарских, чувашских, мордовских – хватило на всю оставшуюся жизнь: от драм о последствиях нелегальных абортов на деревне до «серийных» водевилей вроде «Тетушка Праски дочку выдает», «Тетушка Праски внука женит» и т.д. Между прочим, у своей целевой, то есть опять-таки национальной, аудитории они даже в 1990-е годы, когда на спектакли самых выдающихся режиссеров в Москве никто не ходил, пользовались непреходящей популярностью, и если у Женовача на Малой Бронной на его замечательных постановках сидело в зале человек по 40-60, то «тетушкам Праски», простецким драмам и комедиям театров им. Г. Камала в Казани, им. К. Иванова в Чебоксарах и др. аншлаги всегда были обеспечены, и на гастролях в сопредельных регионах также. Идеология с течением времени менялась, революционный пафос и героика социалистического, преимущественно колхозного (материал-то для сюжетов шел в ход деревенский, как правило) строительства сменялся мотивом ущемления прав национальных меньшинств, антиклерикализм – религиозным возрождением, но сам факт «идеологического заказа», прямого или косвенного, никуда не уходил. И не ушел. Сегодняшний спектакль театра им. М. Гафури по повести Мажита Гафури – образчик продукции того самого «национального театра», чья эстетика, стилистика, форма высказывания ничуть не изменилась за целый век, но чей идеологический посыл менялся вместе с политической модой, а точнее, вместе с государственным заданием. В выполнении этого «задания» режиссеры и актеры могут оставаться в достаточной степени честными, искренними (один из актеров театра им. М. Гафури – тот, что играл отца девушки, старик с золотыми зубами – как оплакивал дочь в спектакле по сюжету, так и на поклонах продолжал слезы лить, не мог выйти из образа, настолько глубоко поверил в предлагаемые обстоятельства), могут проявлять, если он имеется в наличии, талант и фантазию, да и заказ как таковой необязательно спускается сверху в виде официальной разнарядки (хотя мы уже сейчас живем в ситуации, когда оперным и кукольным театрам, не то что драматическим, как раз и рассылаются циркуляры с тематическими планами из департаментов культуры), но наличие идеологического посыла, продиктованного текущими политическими тенденциями, и его выражение через формы, сложившиеся для реализации совсем, может быть, иных, а то и вовсе противоположных идей, взглядов, политических задач, из «национального театра» никуда не уходит, поскольку остается для этого явления фундаментальным, корневым.
От повести, созданной к десятилетию революции, в сегодняшних «Черноликих» осталась сюжетная канва. От формата «национального театра» – весь набор выразительных средств, стилизованные «народные» костюмы, слегка модернизированные, но на фольклорной основе, игры (с использованием почти аутентичной атрибутики), песни (в микрофон) и танцы (с перьями), выполненное в этническом ключе, с приметами «бедного» театра и лубка, сценическое оформление и игровая атрибутика, обрядовые элементы. От современного искусства – расширяющие пространство спектакля, выводящее фольклорное и национальное явление в поле академической и общемировой культуры – художественные аллюзии, например, на прерафаэлитскую Офелию в эпизоде, когда помешавшуюся после побивания камнями и изгнания из отцовского дома Галимэ́ подвергают «очистительному» ритуалу, старухи-знахарки кладут в бадью с водой, обкладывают веточками и цветочками, читают поэтичные заклинания, да и в целом характер девушки в чем-то перекликается с образом шекспировской героини, правда, ее возлюбленный, несмотря на пылкие поначалу речи, оказывается какой-то бледной тенью, и практически бросил несчастную свою несостоявшуюся невесту на произвол судьбы, скрывшись в городе. С одной стороны, этнографическому антуражу «Черноликих» присуща заметная доля условности, роднящая инсценировку сугубо реалистической вроде бы прозы с символистской драмой; с другой – значительная степень этнографической точности. Я бы сам не обратил внимание, да и не знал, но благодарен за подсказку: у башкир женщина с голыми пятками считается чем-то абсолютно невозможным, неприемлемым, непристойным, и актрисы, изображающие деревенских девушек, работают в носочках; но едва доходит до персонажей инфернальных, призраков из безумных видений несчастной Галимэ́ – они оказываются босоногими...
Вячеслав ШАДРОНОВ, блогер arlekin
Продолжение следует...
Выбор редакции
Новости партнеров
