-14 °С
Облачно
Все новости
КНИГИ
15 Апреля 2020, 20:00
Реграмма как поэтический феномен Айдара Хусаинова. Часть третья
(Филологическое исследование, включающее опыт подробного критического прочтения книги стихотворений) 4 Итак, я ввожу понятие реграммы (контрнаписания) или деграммы (крайний случай реграммы). Так можно назвать микроны вливаний «иноязычного» (в нашем случае, тюркоязычного, а в случае неудачи, просто безъязычного) языкового сознания, которые А. Хусаинов встраивает в русское поэтическое наследие в виде частной формы своих стихотворений. В основе деграммы лежит, как я уже сказал, некая двойственность тюркско-русского сознания, или скрещенный язык.
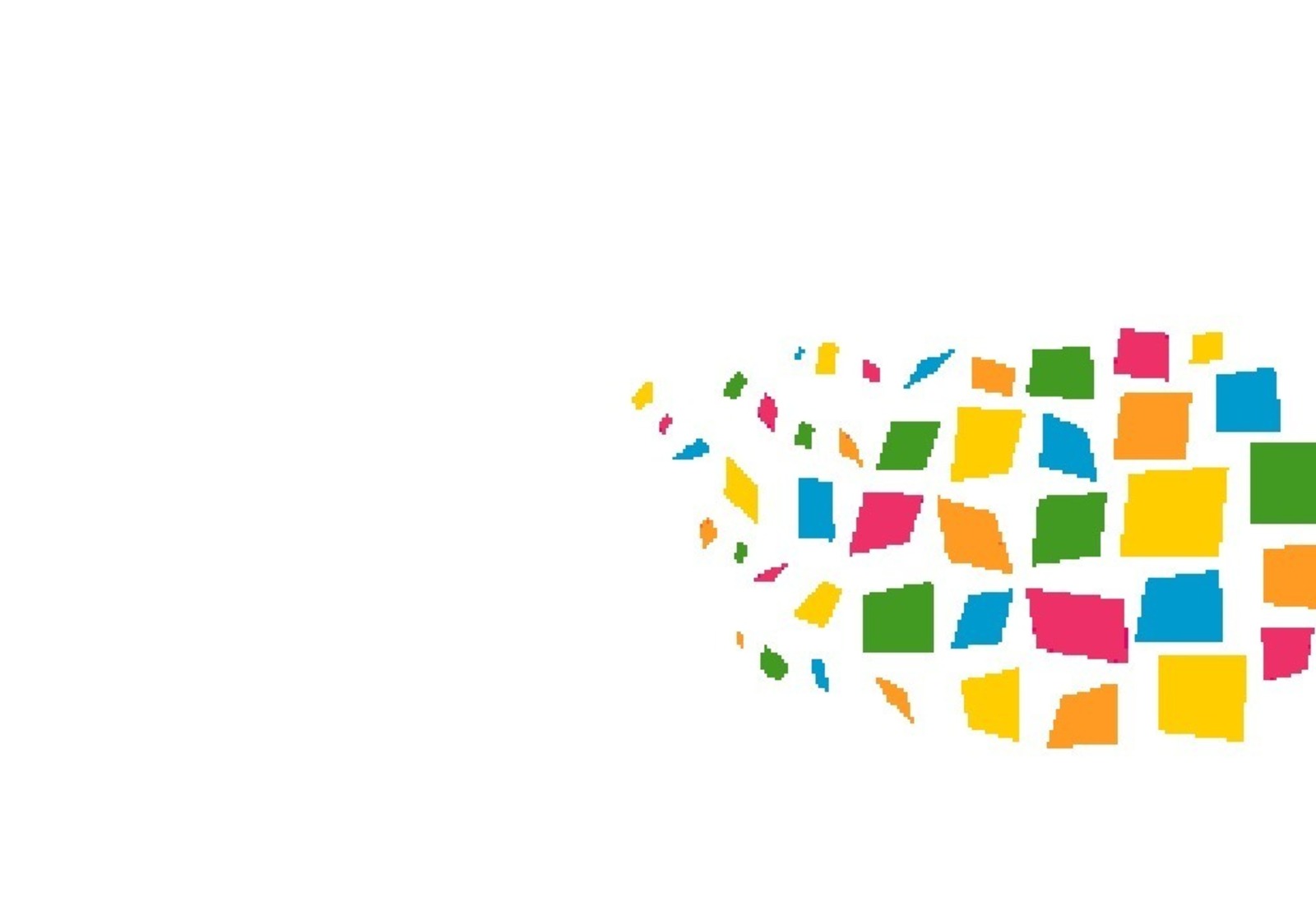
Это все еще нечто новое в нашей культурной уфимской среде, малоизученное, иногда прямо отталкивающее иного русского читателя. Предшественники А. Хусаинова по башкирской линии – М. Карим, М. Гафури и некоторые другие поэты писали на родном для них языке, башкирском. А. Хусаинов сознательно избрал русскоязычную поэтическую культуру. А это ответственный, если не мучительный для башкира путь развития тюркского сознания, привыкшего к ограниченному своим этносом кругу представлений.
С другой стороны, русский (читай, европейский) язык для А. Хусаинова, напротив, блестящая возможность выйти на иные, более широкие, галактические (и региональные) орбиты ещё неизведанного замкнутой уфимской башкирской литературе космоса.
Когда я говорю «замкнутой» я вовсе не имею в виду отрицательные свойства или один негатив. Тем более, что здесь имеется своя – освоенная, выверенная и открытая в другие братские – тюркские народы, традиция. «Замкнутый» может также значить островной, или полуостровной, или внутриконтинентальный. Очень интересное сочетание, в отличие от приведенных выше примеров с Ф. Тютчевым или А. Пушкиным и привнесенными ими в русскую литературу западными тенденциями. Любопытно наблюдать, постановку тюркизмов в форме русского стихотворения. Иногда забавно, даже комично, иногда величественно. Хусаиновский ритм, например, как элемент формообразующий, в случае удачи, неподдельный, завораживающий какой-то своей мощью, одновременно усиливающий высказывание, как бы мистериальный.
Но пора переходить к конкретному рассмотрению отдельных стихотворений поэта.
Разбор стихотворений книги
Что хотел сказать тот или иной автор, читатель не всегда понимает в силу собственного неразумения. Но есть другая беда, читатель понимает, что автор сказал не так, как должно бы быть сказано. Здесь виноват поэт. Он взял некую мысль, но не сумел ее должным образом выразить. Может быть, он решил, что это необязательно и что читатель сам обо всём догадается. Но читатель не обязан доделывать за автора его работу, автор должен быть достаточно совершенен, тогда стихотворение не утрачивает свой смысл (пусть самый темный и гадательный). Только выразительная кондиция делает стихотворение изделием высокого искусства. Тогда, даже если стихи «низменны» по содержанию, форма все же одерживает над содержанием победу, и продвинутый читатель (с литературным вкусом) адекватно это воспринимает и радуется.
Итак, «в игру» вступают реграммы А. Хусаинова.
Возьмем стихотворение «Алине», первое в «Адреналинии».
Дается картина весны и поэт призывает:
Выйди в степь – хотя обычай давний,
Но пора забыть и о зиме,
Пусть в траве лежат повсюду камни,
Словно кости сгинувших в земле.
В первом двустишии читатель наталкивается на то, что я назвал реграммой А. Хусаинова, некой грамматической единицей авторской манеры (грамма по-гречески – письмо, буква).
Разберем эти строки:
Вторая строчка, не являясь по сути противопоставлением первой строке, зачем-то все же начинается с противительной частицы «но», чем сразу же сбивает с толку читателя. У него возникает закономерный вопрос: почему вдруг давний обычай выйти весной в степь, перестает работать именно весной, когда ему и приходит пора? К чему автор вводит здесь логическое противоречие? Ответа нет. Это просто неверное выражение мысли. Так по-русски не говорят. Такое выражение, конечно, можно оправдать, но для этого придётся пуститься в казуистику и придумать множество «вещей», на которые автор мог бы намекать. Но мы не должны выходить за границы самого текстуального выражения. А оно на четверть (если не наполовину) бессмысленно. Природа русского (любого) языка требует соблюдения его собственных правил грамматики, допустимой самой этой природой. Тем более в случае поэтического притязания все должно быть грамматически отлажено (даже кажущееся, но сознательное нарушение формы). Тогда поэт может претендовать на индивидуальную манеру или стиль письма, иначе это – пустая претензия.
Сравнение камней в траве с костями в земле представляется большей поэтической удачей.
Далее идут хорошие стихи:
Но зато – ни горести, ни тленья,
Горизонт до края свеж и чист.
И в весеннем сладком умиленье
Кто не станет весел и речист?
Хотя «весеннее сладкое умиленье» (упоенье, успокоенье?) скорее уж должно располагать к углублению в размышление, чем к «речистости». Но и при неглубокой психологии сами стихи совсем не плохи. «Речисты».
Далее стихи не то чтобы плохи, скорее опять «слегка» бессмысленны (места эти отмечены знаками вопроса):
Вот и ветер – плечи обнимая,
Нагибаясь (?) к нежному ушку,
Говорит, совсем не понимая (?)
Те слова, что слышал на веку:
– Дева, дева, кто ты или что ты?
Чем живешь, куда свой держишь путь?
Как приятно в юности дремотной
Сладким сном на всю-то жизнь – уснуть.
Тут у читателя возникает нормальная догадка, что этот ветер – ветер в голове девы. Метафора ее бестолковости. Далее:
Как трава сойти с весенним снегом,
Отыскав, где лучше, веселей.
Сколько их – прошедших скорым бегом,
Словно ты(?) и не был на земле – (словно их не было…?)
Прервемся. Во-первых, читатель видит, что стихи здесь вырастают в назидание юношеству, что, конечно, хорошо. Другое дело, что неточность здесь в том, что трава не сходит с весенним снегом. Она выходит из-под снега. Дидактика с правдой – нехудожественно расходятся в этих строчках.
Последние две строки опять пример реграммы:
Сколько их прошедших скорым бегом,
Словно ты и не был на земле.
Снова так нельзя говорить по-русски. Возникает путаница. Читатель может подумать, что это ветер (или сам автор) не был на земле, что, конечно, бессмыслица. Но именно так по-русски прочитывается эта форма. Для чего введена поэтом эта реграмма – непонятно. Создается впечатление, что это просто неумение (или не желание) довести поэтическое высказывание до вразумительного конца.
Вообще, любопытно, что здесь непонятно, где возникает высказываемая в стихотворении мысль, кто её субъект? То ли это говорит степной ветер, то ли подсознание девы, то ли это слова автора. Возможно, все вместе. Это, конечно, допустимо.
Далее читаем:
Или есть в тебе огонь сознанья,
Скромный, ненадежный огонек,
Уместивший гордое призванье?
Ну, хотя бы слабенький – намек?
Или голос времени услыша,
Встрепенется вся твоя душа
И забудет о пределах вышних,
Только днем сегодняшним дыша?
Реграмма здесь в том, что «встрепенется» в данном контексте должно бы относиться к «пределам вышним», а не ко дню сегодняшнему (косному и бестрепетному), как в стихотворении.
Далее – гладко нарастающая дидактичность, хотя и нашедшая неожиданный ход, читаем:
Неужели в том найдёшь ты счастье,
Жизни нарастающий итог,
Чтоб от наглых выходок начальства
Приходить в немедленный восторг?
Стихи сами по себе превосходные, хотя и вызывают комический эффект.
Дальше с дидактичностью и комичность усиливается:
Неужели сердце станет глухо,
Отыскав единственный ответ?
Станешь ли визгливою старухой
В двадцать пять прекрасных юных лет?
Здесь мы наблюдаем прорыв в дидактической манере письма, и достигается он за счет комических способностей поэта. И это уже – сатира!
Далее воздействие даже усиливается замечательной драматургией изображения:
И, найдя влюбленного мужчину,
Все свое отчаянье и ложь,
Всю тоску, всю боль и мертвечину
В его сердце нежное – метнешь?
Коварной «деве» (хотя и с ветром в голове) здесь противополагается «мужчина» с нежным сердцем – беззащитная жертва своей невинной любви. Психология небольшая, но весьма выразительная.
Иль в труде заветном похоронишь
Жизнь свою, забыв про белый свет,
Навсегда оставшись посторонней
Для людских и радостей и бед?
Рифмы плохи: «похоронишь / посторонней». Эпитет «заветный» тут не подходит для труда (скорее, слишком обыденного), противопоставленного людским горестям и бедам.
На наших глазах мысль поэта проделала неожиданный скачок. «Заветный труд» оказывается не ценностью, как все заветное, а почему-то вступает в противоречие с жизнью и белым светом... Дева, отдавшись такому труду, мы видим, сильно рискует стать посторонней людским радостям и бедам.
Скажем честно, позавидовать такой участи девы нам никак нельзя. Проще отказаться от «заветного труда» (хоть и непонятно из текста, что это такое). Обычные слова не обретают здесь высказываемого в них смысла, из-за непонятной читателю таинственной работы авторской реграммы, или деграммы (как неудачи).
Но продолжение все более захватывает читателя:
Будет ли твой раб в дому доволен?
Всю ли жизнь им будешь помыкать?
Или если станет слишком больно –
Вены перережешь – на рука?
Раб, конечно, никогда не будет доволен. Вопрос, станет ли резать себе вены дева того раба?
Но и это не все, появляется перспектива:
Победит ли страх твое волненье,
Сможешь ли в себе перестрадать
Жизни то веселье, то мученье,
Чтобы стать – жена, подруга, мать?...
Творческое изменение природы языка самим пишущим должно им же точно и ощущаться, и осознаваться – по мере возможности и необходимости. Иначе читатель не поймет его текст адекватно.
И в последней строфе, в общем-то, смысл целиком появляется. Читатель утешается уже тем, что жизнь «девы» не выше травы, но зато также высока и ветрена, как облака.
Алексей КРИВОШЕЕВ
Выбор редакции
КОЛУМНИСТЫ
1 Июня 2025, 11:00
Современный сэсен Башкортостана или О вопросах духовной, литературной и музыкальной иерархии в системе тенгрианства
КОЛУМНИСТЫ
21 Февраля 2025, 14:00
От первого лица
КОЛУМНИСТЫ
28 Января 2025, 10:00
Надо ли троллить писателя?
КОЛУМНИСТЫ
7 Января 2025, 11:08
150 НОМЕРОВ…
Новости партнеров
