-9 °С
Облачно
Все новости
КИНОМАН
22 Декабря 2019, 20:31
Вий: а легенду-то подменили!
Один из самых масштабных, в том числе и в смысле задумки, «долгостроев» отечественного кинематографа наконец добрался до зрителя. Фильм снял мало кому известный режиссер Олег Степченко. Картина стала «лебединой песней» умершего актера старой советской школы Валерия Золотухина. Среди новых имен следует отметить Ольгу Зайцеву, сыгравшую роль панночки.
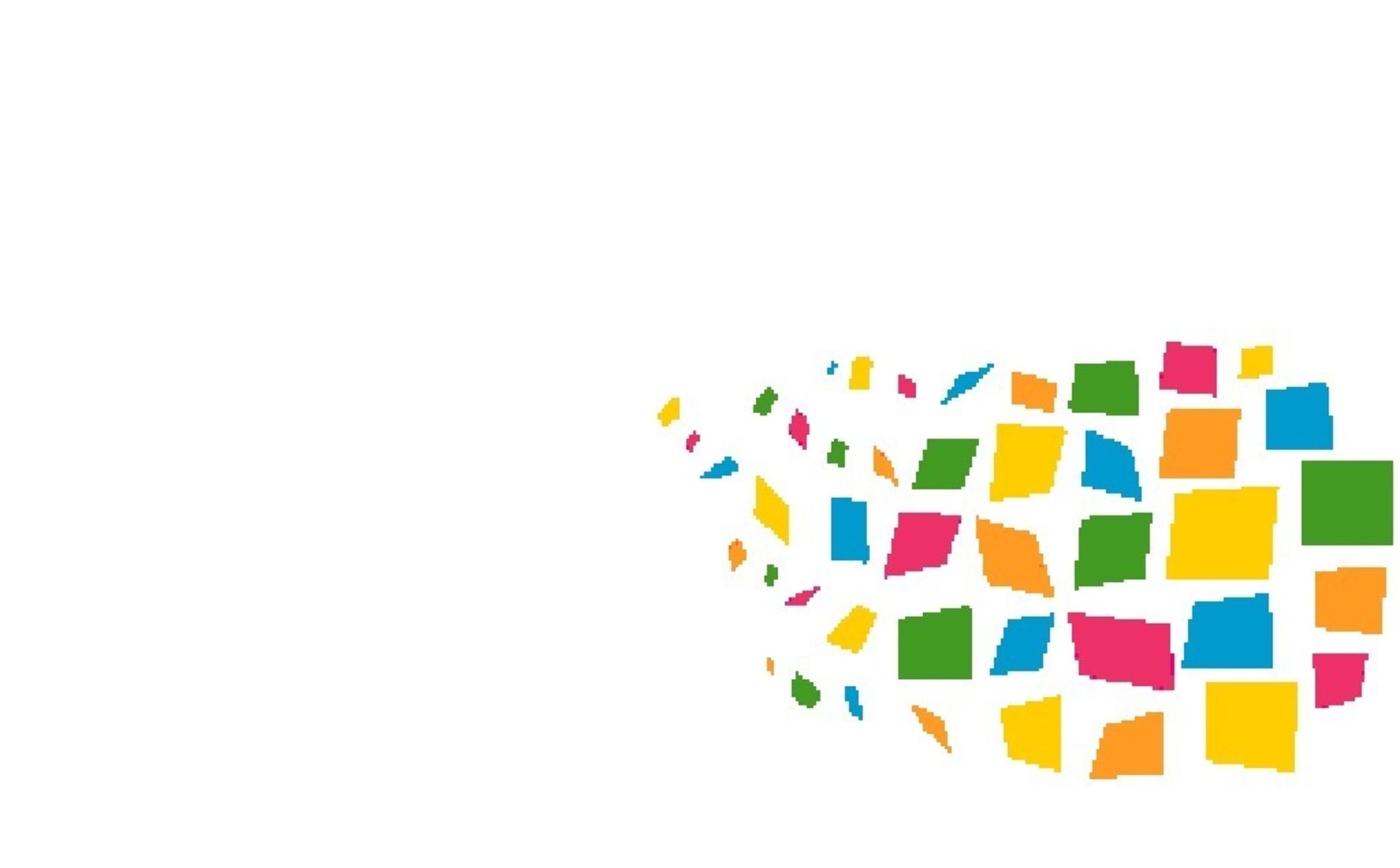
Разбирая критики и отзывы, щедро разбросанные на просторах Интернета (вот он, век компьютеризации!) умиляешься одному обстоятельству. Один и тот же негативный отзыв, начинающийся с фраз: «ходили с женой на «Вий» – полное разочарование. Это же так надо было извратиться над Гоголем! Вот старый фильм с Куравлевым был по-настоящему страшным, а этот…» кочует из сайта на сайт. Создается впечатление какой-то злонамеренной акции. Впрочем, я не думаю, что кто-то большой корысти ради брызгал слюной. Просто негатив – всегда провокационнее. Обругать, охаять все отечественное у нашего народа в крови. Положительные отзывы, как правило, дает молодежь. А молодежь нынче писать много не хочет. Есть барышни, ограничивающиеся почти сплошь смайликами. Иногда получаются забавные комиксы.
Радует именно реакция молодого поколения, которое не то, что фильма с Куравлевым и Варлей не видело, но и тонюсенькой повести Гоголя в руках не держало. А ведь многие делают приписку: оказывается, русская классика не такая скучная, как нам преподносят в школе. Надо будет обязательно книжку прочитать и старый фильм просмотреть. Вот уже польза!
Замечу сразу, чтобы не создалось впечатления, что автор сией статьи – фанат любой отечественной продукции от Михалкова до Бондарчука: у меня до сих пор кровь стынет в жилах при воспоминании о «Сибирском брадобрее». Какая-то, простите, девица легкого поведения из Нью-Йорка, паровоз, стригущий елки, сам «барин всея Руси» в роли царя… Одним словом, «развесистая клюква». Причем, заметьте, с убытком в три миллиона долларов для бюджета кинокартины, снятой на государственные деньги! Чуть лучше оказался скучнейший «Обитаемый остров». Но там меня добил покрашенный розовой краской БМП. На «Сталинград», после рецензии Гоблина, я вообще не пошел. Битва за Катю как-то сразу не вызвала прилива энтузиазма (смысл фильма о величайшем сражении свелся к банальной любовной истории).
И вот теперь «Вий», да еще и в 3D. Это первый российский фильм такого формата. Далее, это первый российский фильм, набравший в стартовые выходные больше, чем голливудский блокбастер «Аватар» (с использованием идеи Стругацких!). Фильм снимался на частные деньги. Роль государства была минимальной. В настоящее время картина в одной только России (без СНГ) собрала больше 1 миллиарда рублей! То есть при бюджете в 28 миллионов долларов, новый российско-европейский проект вышел на уровень в 40-50 миллионов долларов, не только окупив затраты на производство, но и изрядно обогатив создателей.
Коммерческий успех «Вия» 2014 года несомненен.
Теперь о художественных достоинствах и недостатках. Но и не только. Вообще, оценивать эту картину как рядовой фильм нельзя. Во многих отношениях это уникальное явление для российской культуры. Начать хотя бы с того, что в проекте участвовала интернациональная команда. Съемки проходили в Чехии, спецэффекты создавались с помощью немецких режиссеров, звук – с помощью английских. Да и собственно, было два живых английских актера. Джейсону Флемингу пришлось специально учить русский язык. И не две-три фразы с ужасным акцентом, а полноценные реплики.
Общим местом отрицательных отзывов является упрек создателям фильма в том, что они ввели новые персонажи, слукавили насчет якобы первой редакции повести Гоголя и свершили акт изощренного глумления над православной верой. Особенно расстарался небезызвестный писатель Юрий Быков. Последний даже заявил: «Гоголь не писал и половины того, что было в трейлере фильма. Все редакции повести давно известны». Осмелюсь заявить, что лукавит-то как раз господин Быков. Известно, что в первом варианте «Вия», опубликованном в «Миргороде», описания нечисти были куда подробнее. Если бы хулители фильма удосужились заглянуть в них, то не стали бы зубоскалить насчет непонятных «корней» в кадре. Все, все это есть у Гоголя. Читайте, господа. Даже стоящий вроде дерева монстр. Даже чудовище с клешней вместо головы.
Удивительно, но старое поколение неисправимо. Оно до сих пор пребывает в святой уверенности Шевырева и Белинского о том, что если ужас описан подробно, то он как бы и не ужас. Абсолютно вздорное, ничем не обоснованное суждение. Такое же нелепое, как суждение о том, что любая авторская обработка портит славянский фольклор. Вот Белинский в свое время не понимал сказок Пушкина. Считал «Руслана и Людмилу» чуть ли не безделкой.
Кстати. У Стивена Кинга чудовища прописаны на страницы!
Создатели фильма удивительно трепетно подошли к тексту Гоголя. Во-первых, сама история была практически один к одному рассказана не меньше, чем за полчаса в качестве воспоминаний персонажей. Более того, авторы сценария сохранили многие значимые реплики, вроде «Добрый был человек Хома, а пропал ни за что». Даже знаменитая попойка в шинке с Дорошем и Оверко была, пусть и переписанная из юмористической бытовой зарисовки в фантасмагорию, сохранена.
Но, действительно, вместо того, чтобы заполнять фильм песнями и плясками, г-н Степченко решил заполнить его, если так можно выразиться, собственным виденьем Вия.
Допускаю, что большинство негативщиков старшего, отчасти среднего возраста, шло на фильм с желанием увидеть простой римейк картины с Куравлевым и Варлей. Но лично мне было бы не интересно смотреть то, что и так прекрасно известно.
Я всегда считал, что театр и кино – роды искусства суть прикладные. Снимать и смотреть «один к одному» – скучно, получается вроде что-то видеоиллюстрации к книге. Не буду спорить. Нужны и такие вот «дежурные» вещи. К тому же, будут всегда читатели, зрители, которым смерть как охота увидеть на экране максимально практически то же самое, что они читали или видели когда-то. Но это уже какая-то психологическая рефлексия получается. Желание вновь испытать давние ощущения. Неудивительно, что сие особенно присуще всяким супружеским парам не первой молодости, которым хочется снова вернуться в юность. А тут такой облом! Почти все новое, неизвестное. Думать надо, размышлять, воспринимать. Осознавать, что время прошло, и нам уже не по двадцать пять.
Так что я решительно отвергаю шаманские заклинания по поводу «погибшей безвозвратно великой советской школы».
Еще раз возвращаюсь к проблеме соотношения исходного текста и конечного продукта. Честь и хвала создателям фильма, что они хорошо вчитались в повесть Гоголя. А там ведь полно загадок, ответов на которые не дает фильм 1967 года. Например, почему церковь, в которой Хоме предстояло отпевать панночку, стояла на краю села, да к тому же – полузаброшенная и неухоженная? Откуда у сотника была огромная, по тем временам, сумма в тысячу червонных? На одном из сайтов я прочитал, что она сравнима с размером годовой дани, которую платили поляки за всю Украину турецкому султану!
Зная оригинальность и талант Гоголя, можно сделать смелое предположение, что парадоксальный, переворачивающий все, рациональный финал был бы вполне в духе русского прозаика. Да и разве афера Чичикова, как полагается, вначале аттестованная чуть ли не как покупка мертвецов с кладбища, не имеет самого прямого отношения к детективному жанру? Посему тонкая отсылка г-на Степченко к «Ревизору» и «Мертвым душам» в самом конце фильма – изящная и верная. Экипаж Чичикова, с чемоданом, с ларчиком, с бумагами, с прожектами – чем не карета Грина? Один – аферист-путешественник, другой – географ-ученый.
Крайне смелым решением было, по нашим клерикальным временам, вывести главным злодеем священника. Сразу вспоминаются фильмы из советского прошлого «Неуловимые мстители» и «Макар-следопыт». В первом – служащий «белым» поп высокопарно именует горилку «пищей нашей» и, о ужас, пытается споить молодого большевика! Во втором – некий отец Крестовоздвиженский советует пороть крестьян и постоянно становится жертвой покушений на свою рясу – то собаки ее рвут, то утаскивают прямо с бельевой веревки красные лазутчики.
Не согласен я с тем, что создатели фильма здесь пытались «унизить» православную веру и церковь. Во-первых, художник имеет полную свободу творчества. Язык искусства – не язык публицистики и юридических документов. Мысль, выраженная образно, перестает быть экстремистской. Во-вторых, в новом «Вие», конечно, речь идет не о том, что все священники такие, как отец Паисий. Речь идет о том, в какие дебри может завести людей поклонение кумирам, пусть даже осеняющим себя крестом. Такие кумиры – опасны вдвойне, ибо они – волки в овечьей шкуре. Ну и метафора, в целом, гораздо шире. Общество – как стадо.
Конечно, эрудированные зрители и критики заметили несообразности. В православной церкви висит скульптурное распятие Христа, у отца Паисия в загашнике имеются орудия инквизиции (стул, утыканный щипами, железная маска). Ну, скульптурные изображения в православных церквях действительно преследовались. Но все же изредка, особенно в провинциальных храмах, в том числе в Великороссии, встречались. Есть даже целый музей православной деревянной скульптуры. Далее. Опять забывают о тексте Гоголя. В нем сказано, что лицо у Вия было железное… Отец Паисий прямым текстом говорит, что скитался долго по Европе. Стоит также принять во внимание, что Украина уже с XVI века испытывала влияние западного мира. Известный своей печальной ролью в истории гоголевских «Мертвых душ» отец Матфей Константиновский вспоминал, что во втором томе был описан священник, к образу которого были прибавлены черты с «католическими оттенками», так что «и выходил не вполне православный священник».
Конечно, как любой новый проект, фильм г-на Степченко не свободен от недостатков. Есть в нем безусловные ляпы. Так, например, непонятно, как в течение целого года сохранялось тело панночки в церкви? Далее, несколько напрягает излишек сцен с распитием горилки. Хотя, если здраво поразмыслить – а ведь вправду, неумеренное питье крепкого спиртного, с длительными запоями, до сих пор продолжает оставаться бедой и «родимым пятном» России. А это до добра не доводит. Доводит до монстров и белой горячки, о чем не без остроумия поведали авторы 3D «Вия».
Отдельной похвалы заслуживают спецэффекты, съемки купальского обряда, декорации, грим. Картинка, правда, может чересчур голливудская. Но как по другому достучаться до сердца и ума молодого поколения, воспитанного на «Трасформерах», «Братьях Гримм» и «Властелине колец»? Я, право, не знаю. Панночка – местами вылитая Самара из «Звонка»… Но это все настолько мелко, что глаз практически не цепляет. А летящие в зрителя топоры, яблоки – уместны и заставляют уворачиваться. Вот только жалко, что на летящий прямо в зрительный зал гроб режиссера не хватило.
Актерская работа, конечно, не дотягивает до старой школы. Один Золотухин представляет ее, скажем так, потрясающие реликты. Но, если опять глубоко подумать, работа эта просто другая. Не театральная.
Еще я заметил не совсем удачные замены этнической лексики на нейтральную. Так, Хома вдруг называет гоголевский «пенник» пивом. Но, наверное, это опять для молодежи, чтобы зритель особо не грузился.
Мне кажется, что при всех издержках, в кино происходит то же, что уже происходило в русской, да и не только в русской, литературе. Байронический тип – герой, эдакий скептик-бунтарь, стал отправной точкой для «Евгения Онегина». А сам «Евгений Онегин» – творчески оригинально «продолжился» в книге М. Лермонтова. Лев Толстой признавался, что не написал бы военных сцен «Войны и мира», без прочтения «Пармской обители» Стендаля. А что есть «Дон Кихот», как не смелая попытка перенести рыцарский роман об Амадисе Галльском в декорации реальной Испании?
Завершая статью о первом российском фильме в формате 3D, хочется чтобы он не затерялся где-то во времени. Не исчез из памяти зрителей. А всех, кто еще не видел это чудо – настоятельно рекомендую заглянуть в интернет. Все-таки такие вещи выходят не каждый год, и их надо смотреть на большом экране. Или вообще не смотреть.
Александр ИЛИКАЕВ
Выбор редакции
Новости партнеров
