-2 °С
Снег
Все новости
ПРОЗА
18 Августа 2019, 20:05
Жизнь, жизнь. Не только о себе. Часть восемнадцатая
Зайтуна ГАЙСИНА Отрывки из книги Кое-что о личном Мой первый брак постепенно сошел на нет. Официальный развод состоялся еще в Уфе по причине слезного признания мужа в измене, но расстаться мы не смогли из-за уже состоявшейся привязанности друг к другу, и он приехал в Набережные Челны вслед за мной. Устроился мастером в «Стальмонтаж». Он считал, что мы должны снова вступить в официальный брак. Я поставила условие: «Хотя бы один из нас сначала должен получить жилье. Надоело мотаться по чужим углам и общагам!». Вскоре его назначили начальником цеха, соблазнов стало больше.
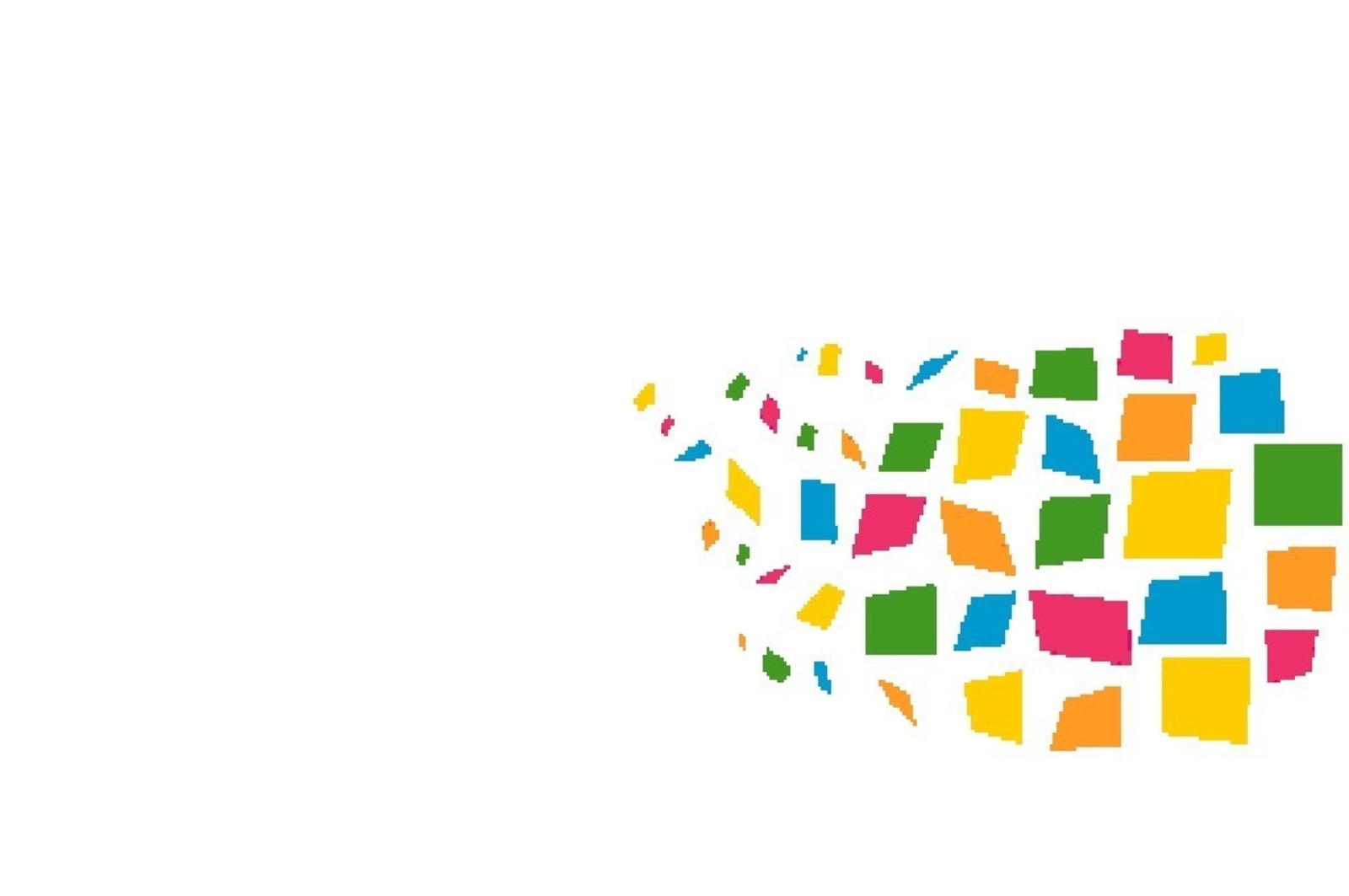
Один летний «выезд на природу» с коллективом цеха дал вполне предсказуемый результат: вскоре восемнадцатилетняя табельщица ждала ребенка от моего бывшего мужа. В декабре пришел ко мне признаваться: «Пятый месяц. Говорит, что повесится, если не женюсь». Я благословила, даже уговаривала жениться, тем более что уже знала – моего женского здоровья на деторождение не хватает. Сказались многократные переохлаждения, простуды в детстве и юности, просто невежество. Каждый организм реагирует на такие воздействия по-своему. А девочка та была смелая, домовитая, красивая – родила ему двоих детей, окончила институт, но умерла молодой от неизлечимой болезни. Пришлось ему жениться еще раз.
Я же поддалась уговорам и осенью 1978 года вышла замуж за первого, кто сделал мне предложение после женитьбы моего первого мужа. Ход мыслей был такой: «Хорошо, что старше меня на 10 лет, и у него уже есть ребенок – дочь от первого брака, которая росла с его матерью, то есть у бабушки. Я-то родить не могу. Профессия у него хорошая – инженер-пусконаладчик, хотя и без высшего образования, запускает новое оборудование на нефтеперерабатывающих заводах. Руки золотые, любит шутку, внешне не хуже многих. Стерпится-слюбится».
Ход мыслей оказался неправильный. Чтобы чужой человек стал родным, должно возникнуть нечто на уровне подсознания, биохимии, физиологии и прочее, и прочее. Я этим пренебрегла и еле вытерпела два года во втором браке. Потом узнала, что второй муж тоже изменял мне с какой-то поварихой, которую возил развлекаться из Павлодара в Москву. У него за многие годы холостяцкой жизни сложилось вполне потребительское отношение к женщине: «Приезжаешь в новый город, на новый завод и в первой же столовой замечаешь женщину, которая “не прочь”. Лучше всего, когда работает в общепите. А если у нее есть квартира – все, живешь кум королю». Так он откровенничал со мной, и это меня только отдаляло от этого человека.
В 1981 году, к началу нового учебного года я вернулась в Павлодар, где почти год проработала на кафедре английского языка в период командировки второго мужа на нефтеперерабатывающем заводе в 1979 году. В ноябре 1979 года меня приняли почасовиком, а в феврале 1980 года провели по конкурсу в качестве преподавателя английского языка.
В 1984 году институт предоставил мне возможность купить кооперативную квартиру за 7600 рублей. Первый взнос в 1800 рублей помогли наскрести родители. Когда я вселилась в свою квартиру, второй муж приехал в Павлодар в очередную командировку. Мы с обоюдного согласия быстро оформили развод, и он, вежливый и обходительный такой, приколотил и повесил в моей первой собственной квартире карнизы для штор, полки в ванной и что-то еще. Сказано – «руки у него были золотые».
Японцы
В первом полугодии 1979 года я успела поработать в бюро переводов объединения «Нижнекамскнефтехим». Второй муж увез меня из Набережных Челнов в Нижнекамск, где сам находился в очередной командировке и запускал новую установку. Помимо письменных переводов, довелось впервые в жизни пообщаться с японцами, которых было двенадцать человек, но только их босс, Нагаока-сан, мог сносно объясняться по-английски. Японская компания поставляла компрессоры, и команда ее инженеров и техников приехала, чтобы запустить эти компрессоры и научить наших операторов управляться с ними. У японцев был свой переводчик, владевший русским, Канда-сан, принадлежавший к какой-то низшей касте. У них была жесткая иерархия и соответствующие взаимоотношения.
Как-то вхожу в офис, и мимо меня пролетает Канда-сан и буквально шипит по-русски: «Подумаешь, аристократ!». Еще подходя к двери, я уже слышала громкие, резкие звуки японского языка, но не думала, что там кто-то ругается – японский-то не понимаю! В офисе застаю «аристократа» Огуру-сан, который ослепительно мне улыбается и дальше прекрасно держит свое японское лицо.
При мне Огура-сан съездил в отпуск в Японию, и я встречала его в Москве и далее везла в Нижнекамск. Багажа было – шестнадцать больших картонных коробок! Похоже, японцы очень тосковали по привычным для них продуктам и прочим бытовым мелочам. Чудом прямо на улице поймала вместительное такси, и мы все же успели на свой авиарейс до Нижнекамска. В Москве один раз проехались в метро, где в час пик толпа пассажиров нас чуть не раздавила, и Огура-сан решительно заявил: «Зоя-сан, метро – нет! Only taxi! (Только такси!)». Посмотрели что-то из достопримечательностей в центре Москвы. Времени было мало. Все расходы (обеды, такси и т.п.) я оплачивала сама и очень боялась, что не хватит командировочных. Позднее Огура-сан сумел как-то объяснить мне, что, когда его в отпуск провожала Нина-сан (другая переводчица), за все платил он сам. Я отчиталась за командировочные, как положено.
В заводской столовой, как наши повара ни старались, было заметно, что нашу еду японцы едят почти через силу, одно второе блюдо на двоих, а то и троих – больше японский организм не принимает. Может, подпитывались чем-то из шестнадцати картонных коробок (личные посылки), которые привез Огура-сан. После еды всегда полоскали рот и горло – громко и тщательно.
Японцы ходили в нежно-серой спецодежде из хорошей плотной ткани и без единого пятнышка! На фоне замасленных, годами не стираных роб наших работяг это особенно бросалось в глаза, но положительный пример японцев наших не волновал – даже не думали о том, что и на их работе можно лучше выглядеть. На входе в только что построенный, грязный, пыльный цех, японцы тщательно мыли голыми руками в луже свои резиновые сапоги или рабочие ботинки – наши только ухмылялись.
Впоследствии мне приходилось общаться с японцами уже в 90-х, когда я работала с экспертами Всемирного банка в Казахстане, но это были короткие периоды, когда люди выполняют свои задания, встречаются и расстаются, иной раз даже не запоминая друг друга. Японцы – это другой мир, для меня все еще загадочный и непостижимый.
Этаж разбитых судеб
В 1981 году Павлодарский педагогический институт предоставил мне комнату в студенческом общежитии. Выскребла, побелила, подкрасила оконные рамы и дверь – стала жить. Из ближайшего магазина бытовой техники студенты-спортсмены на себе притащили мне холодильник «Бирюса». Встроенный шкаф из ДСП и кровать с панцирной сеткой и матрацем имелись.
Половину второго этажа занимали бездомные преподаватели вуза. Среди них были и очень пожилые, пенсионного возраста мужчины и женщины, кандидаты и один доктор наук, которые уехали из больших городов, оставив свои квартиры семейным детям, потому что не видели другого способа решить «квартирный вопрос». Были разведенные мужчины и женщины, старые девы (которых среди учителей и преподавателей великое множество), матери-одиночки, молодые холостые братья Хисматуллины со спортфака, мастера спорта и просто красавцы, и даже семья, в которой был один муж, две жены и трое детей. Вторая жена появилась, когда муж учился в аспирантуре в Воронеже. Она успела родить ему за пять лет стажировки и аспирантуры двоих детей. Первый умер младенцем, а второй родился сразу же после защиты ею кандидатской диссертации в Ленинграде. Когда он навещал законную жену во время каникул, та тоже решила родить от него второго ребенка. Так что второй ребенок законной жены оказался на год младше ребенка аспирантки.
Делить себя он этим женщинам не позволил, пригрозив: «Повешусь, и меня не будет ни у кого!». Взял на себя (якобы) заботу об обеих семьях. Жены помогали друг другу нянчить детей. Они занимали три комнаты. Муж писал по ночам докторскую диссертацию на общей кухне, куда выносил свою крошечную пишущую машинку. Докторскую он все-таки защитил, а лет через десять эта семья оказалась в Уфе – в полном составе, но уже врассыпную. Позднее они пережили большое горе: старший сын, учившийся на третьем курсе в МВТУ имени Баумана в Москве, попал под вагон метро и погиб. Уже была назначена дата свадьбы – сын собирался жениться на москвичке. Я случайно встретила его мать, Татьяну Подкопаеву, в самолете и едва узнала ее. Она летела в Москву хоронить сына и едва могла говорить. Горе подкосило ее до неузнаваемости.
Первый год преподавательской работы оказался для меня нелегким. Мне поручили разработать курс лекций по истории английской и американской литературы и сразу же читать эти лекции на английском языке. Я как будто справлялась с поставленной задачей, но чувство некоторой неудовлетворенности все же тревожило меня. К сожалению, я нигде и никогда не училась разрабатывать и читать лекции, и снова оказалась в роли самоучки. Исписала ручкой более шестисот страниц формата А4. Пишущей машинки у меня тогда не было. Кафедра тоже не была оснащена, как бы следовало.
Кроме лекций по истории литературы, я вела практически занятия по устной речи, практическую фонетику, домашнее чтение, газету (чтение и пересказ текстов на общественно-политическую тематику), стилистический анализ текста. Работала в основном на старших курсах, и года через три стала старшим преподавателем. Подружилась со студентами из группы, в которую меня назначили куратором, когда они были второкурсниками.
С удовольствием ездила со студентами на сельхозработы. Осень в Павлодарской области обычно долгая, теплая и сухая. Помню, что в 1981 году купалась в Иртыше 9 сентября. Вода была как парное молоко – так прогрелась за жаркое сухое лето. Собирали чудесные арбузы, копали картошку и корнеплоды, перерабатывали зерно. Учила девочек-студенток беречь свое женское здоровье в «экстремальных» условиях. Когда я накануне отъезда на сельхозработы затрагивала эту тему, пусть даже в самых деликатных формулировках, они сначала напрягались, настораживались, но потом воспринимали мои советы вполне адекватно.
На следующую зиму ко мне приехала из Башкирии мама. Обсудила со всеми, кто на общей кухне поддался ее обаянию, их жизненные истории и пришла к выводу: «Тут все ненормальные, ну и ты такая же!». С тем и уехала. Я копила деньги, чтобы купить маме в подарок золотую цепочку, но она заставила меня приобрести на эти деньги югославскую кушетку: «В институте работаешь – ни одежды приличной, ни кровати нормальной!». Кушетка была чудная – повезло при мебельном-то дефиците. И легкая, и прочная, и мягкая, а обивка матраца и трех подушек – просто благородная, бархатистая, цвета кофе с молоком, в коричневую крапинку. На высоких ножках – под ней можно было протирать пол. Появился первый в жизни предмет собственной мебели. Спать стало лучше (прежний пружинный матрац был изрядно амортизирован еще до меня), хотя под окном моей комнаты в общежитии почти круглые сутки звенели трамваи, а в окно второго этажа ярко светил уличный фонарь.
Продолжение следует…
Часть семнадцатая
Часть шестнадцатая
Часть пятнадцатая
Часть четырнадцатая
Выбор редакции
КОЛУМНИСТЫ
1 Июня 2025, 11:00
Современный сэсен Башкортостана или О вопросах духовной, литературной и музыкальной иерархии в системе тенгрианства
КОЛУМНИСТЫ
21 Февраля 2025, 14:00
От первого лица
КОЛУМНИСТЫ
28 Января 2025, 10:00
Надо ли троллить писателя?
КОЛУМНИСТЫ
7 Января 2025, 11:08
150 НОМЕРОВ…
Новости партнеров
