-5 °С
Облачно
Все новости
ХРОНОМЕТР
24 Января 2021, 19:30
Эсперанто. Часть пятая
Не избежал и я тлетворного влияния великодержавных амбиций в годы войны и позднее. К счастью, воспринимал их все же не безоговорочно – за что и попал в тюрьму. И проникали они в душу не слишком глубоко, не укоренялись, а позднее легко отпадали мертвой шелухой. Им противодействовали неизбытые юношеские представления о равенстве всех народов – представления столько же обдуманные, осознанные, сколь и непосредственные, укорененные в подсознании, в мироощущении.
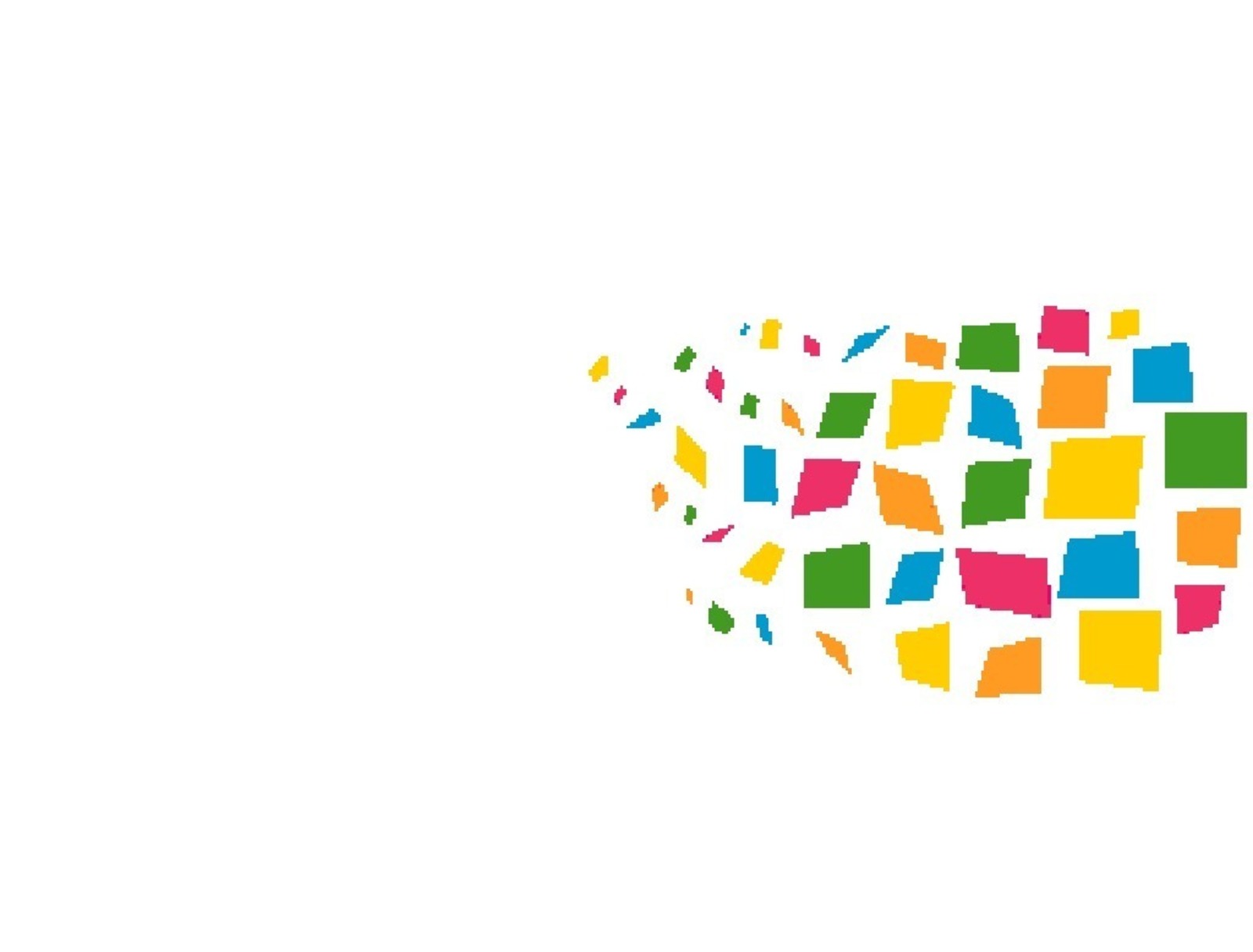
Поэтому, даже став искренним приверженцем Сталина, я все-таки не превратился в последовательного сталинца, – то есть в холопа, уже вовсе беспринципного, бессовестного, готового на любые злодейства. И никогда не мог, ни душой, ни рассудком поверить, что у нас больше врагов, чем друзей, что идейных противников надо не убеждать, а убивать. Такой спасительной незавершенностью и непоследовательностью моего духовного и нравственного вырождения я обязан хорошим людям, хорошим книгам – многим добрым силам, в том числе и ребяческому увлечению эсперанто.
Мечта о безнациональном содружестве людей утопична. Отказ от нации так же ирреален, как отрыв от земного притяжения. Невесомость космонавта – недолгая, искусственная „свобода“ от земли. Тем радостнее потом возвращение к естественной весомости, к земному притяжению, к земным тяготам.
Он видел, как в Российской, Австро-Венгерской и Турецкой империях нарастали жестокие противоречия между народностями, как развивались национально-освободительные движения в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, в славянских владениях Габсбургов и турецких султанов.
Тогда же возникали и ширились новые мифы: панславизм, пангерманизм, антисемитизм – (уже не религиозный, а расистский), – сионизм, воинственно-шовинистические движения в Германии, Италии, Франции, Японии и других странах.
Эти мифы превращали естественные привязанности к родному языку и словесности в спесивое самолюбование, злое высокомерие; боль оскорбленных национальных чувств перерождалась в ненависть к иноплеменникам, ко всем, кто говорил на языке угнетателей или был сродни „наследственным врагам-соседям“.
Желание противоборствовать реальному злу рождало мечты о нереальном добре – мечты пацифистов, мечты создателя эсперанто и его последователей.
Но были у их замыслов и другие источники.
Почти полтора тысячелетия латынь оставалась международным языком католической церкви и всех образованных европейцев.
Больше двух веков французский язык был уже не только в Европе общим языком дипломатов, аристократов и многих интеллигентов разных стран.
Конечно, и тогда уже некоторые люди понимали действительную сущность того строя, который рос и креп наследником, преемником многовекового самодержавия, вопреки революционным потрясениям 1917–1921 годов, вопреки революционным утопиям Ленина, Троцкого, Бухарина.
Наш крепостнический, каторжный и парадный „социализм“ преодолевал все мятежи и смутные времена, так же как его предшественники преодолевали Новгородские вольности, казачьи мятежи, цивилизаторские преобразования Петра, просветительские иллюзии Александра I и либеральные реформы Александра II.
Но я убеждал себя и других, что главное неизменно, что все беды, злодейства, ложь суть неизбежные временные заболевания нашего в целом здорового общества. Освобождаясь от варварства, мы вынуждены прибегать к варварским средствам и, отражая жестоких коварных врагов, не можем обойтись без жестокости и коварства…
С удовольствием смотрел я фильмы о Петре Великом, Александре Невском, Суворове, мне нравились патриотические стихи Симонова, книги Е. Тарле и „советского графа“ Игнатьева; я смирился с возрождением офицерских званий и погон.
По взрослому оживала детская привязанность к былям отечественной истории. И с новой силой звучали никогда не умолкавшие в памяти голоса „Полтавы“ и „Бородина“.
Тогда я уже только посмеивался, вспоминая пацанские увлечения эсперанто.
Но десятилетия спустя, когда позади остались войны, тюрьмы, реабилитации, „оттепели“ и новые заморозки, когда уже писались эти воспоминания, я начал постепенно сознавать, что, пожалуй, именно „детские болезни“ эсперантистского и пионерско-комсомольского интернационализма предохранили меня от заражения воинственной полонофобией и финофобией в 1939–40, от ослепляющей ненависти ко всем немцам, от наиболее тлетворных миазмов казенного шовинизма.
И в то же самое время ведь именно эти упрямые мечты побуждали не за страх, а за совесть отождествлять себя с режимом сталинского великодержавия. В тюрьме я сочинял стихи, чтобы укреплять память и сохранять душевные силы. В плохоньких стишатах бесправный „зэк“ высказывал свою неколебимую веру. „…Покуда движется земля, Свят будет мрамор Мавзолея и звезды старого Кремля“.
И позднее – реабилитированный, восстановленный в партии, я продолжал, вопреки жестоким разочарованиям, отстраняя неумолимую правду Берлина 1953 года, Венгрии 1956 года, снова и снова цепляться за спасательные круги тех давних утопий и надежд. Убеждая себя, старался убедить других: ведь все же сбываются наши стремления и предвидения, – сбываются вопреки всем ошибкам, просчетам и преступлениям „культа личности“, – подтверждали события на всех континентах от Эльбы и Адриатики до Индокитая; уход колонизаторов из Индии, Индонезии, из Африки.
Прозрение наступило позднее, развивалось медленно и непоследовательно.
Пражская весна 1968 года пробудила старые и рождала новые надежды, старые и новые сомнения.
И сегодня я думаю, что ребячьи эсперантистские мечты – добрые стремления к международному братству и те иллюзорные представления о мире, которые делали нас приверженцами зла, в то же самое время помогали мне и таким, как я, сохранять остатки совести, сберечь в душе зерна добрых надежд.
Потому что бессмертна надежда, возвещенная впервые на заре нашей эры – „несть эллина, несть иудея“.
В юности я верил, что эта надежда перевоплотилась в призыв: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“ Позднее убедился, что она живет и во многих других воплощениях. И всего явственнее для меня сегодня в пушкинской речи Достоевского – „Быть по-настоящему русским – это значит быть всечеловеком“.
Лев КОПЕЛЕВ
Выбор редакции
КОЛУМНИСТЫ
1 Июня 2025, 11:00
Современный сэсен Башкортостана или О вопросах духовной, литературной и музыкальной иерархии в системе тенгрианства
КОЛУМНИСТЫ
21 Февраля 2025, 14:00
От первого лица
КОЛУМНИСТЫ
28 Января 2025, 10:00
Надо ли троллить писателя?
КОЛУМНИСТЫ
7 Января 2025, 11:08
150 НОМЕРОВ…
Новости партнеров
