-9 °С
Облачно
Все новости
ПОЭЗИЯ
26 Февраля 2020, 18:15
Мы – это мысли бескрайне яркие
Ольга ВОРОБЬЁВА (1999 г.р.) – жительница города Советск Калининградской области. Член Союза писателей России и Совета молодых литераторов Калининградской области. Стихи этой подборки – обаятельны и гармоничны. Они симметричны по форме и содержанию – даже с виду. Внешне – это как будто обычная силлабо-тоника: в основном трёхсложные стопы, привычные, в общем, ритмы, «обязательные» рифмы (есть и составные (необычные): перхоть/Наверх хоть (!)), строки с заглавными буквами.
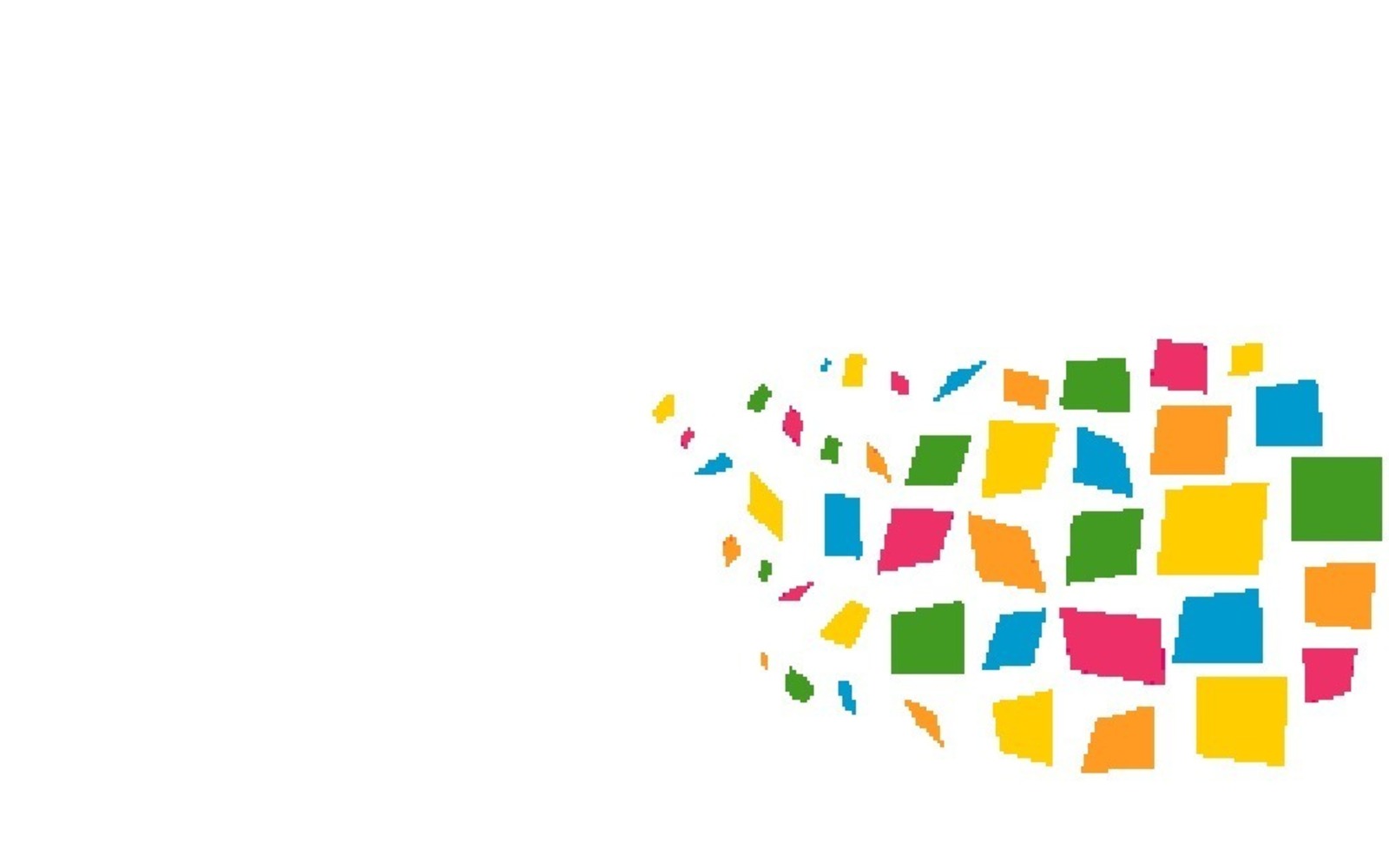
Но при этом искренность авторского тона, некоторая пронзительная безутешность его, сопряжена с осмысленным порождением необычных образов и чудесным выходом в светлую и мягкую палитру. Например: «Всё качаю уставшие буквы/И пою колыбельные им». И хотя: «Мы – это времени унесённого/Тихий болючий спазм», но: «Пачкают звёзды блестяще-маркие/Наши с тобой зрачки…». Восхитительно. А главное, эти переходы семантических оттенков – столь же естественны, сколько и новы в отношении, образующем смысл, не готовый заранее или просто заимствованный у кого-либо.
Это, конечно, заявленная автором сила – когда индивидуальное начало творчески сочетается с выверенной веками, усваиваемой сегодня поэтом (поэтессой) на уровне языка поэтической традицией.
Традицией, ставшей как бы голосом, так не достающего нам сегодня хора, без которого нет ни трагедии как жанра, ни истинной трагичности в поэзии. А, следовательно, нет ни очищения (катарсиса), жизненно необходимого для каждого участника стихотворного действа, ни утихания страстей, ни нового желания всей полноты существования. Нет – освобождения. Поэтому и другие литературные жанры (та же лирика) в отсутствии трагической составляющей теряют общую силу своего слова. Понятно, не у всякого поэта найдётся способность для трагической (прекрасной, но правдивой) изобразительности действительной жизни. Тут, как прирождённому ныряльщику за жемчугом, необходим большой запас воздуха (духа) и выдержка, умение долго не дышать... Но многие из начинающих (да и заканчивающих) авторов просто не имеют достаточного вкуса к этой самой традиции – они не видят её в современном преломлении и возможном применении к своему внутреннему опыту. Такие авторы ещё не понимают, что индивидуальность поэта должна добровольно и полностью сначала в поэтической традиции – раствориться. Так в материнской жидкости растворён до времени будущий кристалл, обретая в её сплошной как бы бесструктурности ещё не существующую и уже неповторимую в чём-то свою собственную «будущую» форму. От верхоглядов-модников в искусстве ускользает глубокое философское понимание такого действительно желанного долженствования, которое принимается ими даже за несвободу в творчестве. Однако рискнуть потерять себя (своё ограниченное эго), раствориться в творении – первое необходимое условие для дальнейшего роста или превращения поэта (в поэта). И если у него хватает силы, поэт осваивает не одну единственную традицию, скрещивая в дальнейшем её с другими, уже освоенными. И второе условие: уже полностью растворившись, заново собраться, впитав в себя-нового все материнские (традиционные) соки (энергии). Но это уже будет новая поэтическая личность. Или, другими словами, необходимо сгореть и возродится, как Феникс, прямо из пепла. Ибо, что такое и сама поэзия, как не горение (чтобы не сказать самосожжение)? И другого, совсем безопасного, пути для поэтического становления нет. Никогда не было. Даже авангард, если он не одна видимость и очередная мода, суть – возвращение к более древним и глубоким, забытым смыслам. Но всё-таки на основании, этому авангарду предшествующем по времени. Даже чтобы просто оттолкнуться от какой-то исчерпавшей себя данности, нужно на ней для начала утвердиться (изощриться, если угодно). Лучшие рисовальщики (смысловики), как правило, и лучшие авангардисты (экспериментаторы с формой). Пикассо – прежде всего классик-традиционалист, а потом уже и новатор. То есть, снова классик.
Но и консерватор без удачных новаций – другая, не менее скучная, история, чем «голый» новатор.
Сегодня Ольге Воробьёвой в её 21-н год уже удаётся достаточно убедительно совмещать старое и новое. Сегодня у столь молодого поэта, как она, всё самое главное ещё в будущем времени. Ибо информация, необходимая для профессионального освоения, за один только двадцатый век и начало двадцать первого века – выросла просто умопомрачительно, сравнительно с многими и многими предшествующими веками. Что не может не сказываться и на образующей всё стихотворение сквозной форме (равно внутренней, как и внешней). Форме, несомненно, усвоившей великую поэзию предшественников, но не сводимую в случае действительной (крупной) удачи, ни к одному из предшествующих стихотворных образцов, включая свои собственные стихи. В этом, в отличие от механической науки и её ожидания, и состоит духовная органика или чудо искусства.
Алексей Кривошеев
* * *
Здесь на тёплую землю ложится
Вместо снега бумажная перхоть.
Мишура заполняет пространство.
Кто оставил здесь столько пространств?
Улетает железная птица
Под названием чартер. Наверх хоть?
Или снова натруженный транспорт
Потеряется в пластике царств?
Очень просто, глаголы рифмуя,
Ночь идёт по обломкам Содома.
Наливаются карие клюквы
Тех, кто был хоть минуту любим.
Здесь меня не прочтут, потому я
В полусумраке старого дома
Всё качаю уставшие буквы
И пою колыбельные им.
Если будешь послушен и храбр,
Я к нутру твоему не притронусь.
Новый чартер на море умчится
По маршруту не выживших фраз.
В этом городе даже декабрь –
Как пластмассовый ёлочный конус.
Улетает железная птица,
Забывая нарочно про нас.
* * *
Мы отражаем свет, мы мо́ря гладь.
Но здесь итак немного света выдано.
За нами не приедут, нас спасать
Богам экономически невыгодно.
Мы пепел, мы развеемся в лесах,
Ведь только так мы можем стать свободнее.
Король под боем, это значит шах.
А мы здесь пешки, пешки и не более.
Мы наполнялись солью и свинцом,
А вера не была для нас попутчицей.
Стремились в космос, но за три пятьсот
Приобрести скафандр не получится.
Отсюда не отправиться в бега.
Мы прячемся, скрываемся, мы в домике.
Мы тлеем. Мы сибирская тайга,
Сгоревшая
Во благо
Экономике.
* * *
А море его, а море
Солёным пятном на шторе,
Запинкой в напрасном споре
Запрятано в старый кейс.
Ни бури, ни волн, ни грома,
Ни На́блуса, ни Содома.
Моряк остаётся дома,
Моряк не уходит в рейс.
Примерив бушлат холёный,
Он делает вдох солёный.
В окне лишь дома и клёны,
А лучше б девятый вал
И воздух слоёно-влажный.
Кораблик стоит бумажный
На полке. Но он однажды
Отыщет родной причал.
Без моря моряк ничтожен,
Он больше сидеть не может.
Храни его душу, Боже,
И робу его, и соль.
Зовёт его дух мятежный
Туда, где закат безбрежный,
Где в тёплую даль с надеждой
Наивно глядит Ассоль.
А море его – amore,
И радость, и злость, и горе,
И песня в церковном хоре,
И Кракена острый крик.
Спит солнце в небесном тесте.
Моряк убежал к невесте.
Фигура стоит на месте,
Волнуется море.
Три.
* * *
Не стереть, не вывести въевшихся пятен и
Я скорее дойду до кости, скребя.
Я смотрю на будущего обладателя
Себя.
Он проходит мимо, глазами шарится,
Обитатели клеток подняли вой.
Заберите бесхвостую ящерицу
С собой.
На меня здесь давит пространство стенное,
Выход есть отсюда, да нет пути.
Но меня не поздно ещё, наверное,
Спасти.
Я не буду плакать, учить Конфуция,
И читать по ночам о пути Басё.
У меня есть исправленная инструкция
И всё.
Но во мне ничего не осталось вечного,
Шайка бесов ползает по нутру.
Обладатель уходит, я завтра вечером
Умру.
* * *
Нас не догнать, не понять, не выяснить,
Даже не спеть на бис.
Нас не извлечь, не изъять, не выязвить
И не стереть эскиз.
Мы не спасатели, не спасённые:
Нас ведь никто не спас.
Мы – это времени унесённого
Тихий болючий спазм.
Пачкают звёзды блестяще-маркие
Наши с тобой зрачки.
Мы – это мысли бескрайне яркие.
Лунные светлячки.
Мы – это песни печально-старые,
Спетые сгоряча.
Наши сердца не звучат гитарами,
Тикают, но молчат.
Карты, маршруты, заметки, лоции
Нам не вручили, но
Всем вопреки нас ведут эмоции
В светлое полотно.
Нам говорили, мол: "Вы привыкните
Тихо со всеми тлеть".
Нет, мы как лампочки. Раз не выкрутят,
Будем ещё гореть.
* * *
Блики солнца по стенам пляшут,
Растекаются в тёплом свете.
Мне пять лет. Доедая кашу,
Я качаюсь на табурете.
Рядом бабушка свитер вяжет,
Кот гоняет клубок по полу.
Мне не хочется в садик, я же
Подрастаю, мне скоро в школу.
Дождь сползает по старым окнам,
Серость улицы меркнет в гуле.
Мысли делятся на волокна.
Я качаюсь на школьном стуле.
Детство, видимо, скоро рухнет,
Я боюсь становиться старше.
Только бабушка ждёт на кухне,
Будет снова готовить кашу.
Лето. Мне покорять бы скалы,
Мне б забыть аудит и сальдо.
Но в учёбе опять завалы,
Я вдыхаю пары асфальта.
Больше бабушка мне не вяжет,
Нет и каши, как было в детстве.
Я почти не взрослею, даже
Всё качаюсь на старом кресле.
Снег зашторил пространство окон,
Прямо в вечер течёт суббота.
Стал моим постоянным роком
Путь, по имени "дом-работа".
Но теперь я готовлю кашу,
В спальне тихо, уснули дети.
Ну и что, что я стала старше.
Я качаюсь на табурете.
Подготовили Алексей КРИВОШЕЕВ и Мария ЛАРКИНА
Выбор редакции
Новости партнеров
