Солнце всходит и заходит. Часть первая
Жизнь и удивительные приключения Евгения Попова, сибиряка, пьяницы, скандалиста и знаменитого писателя
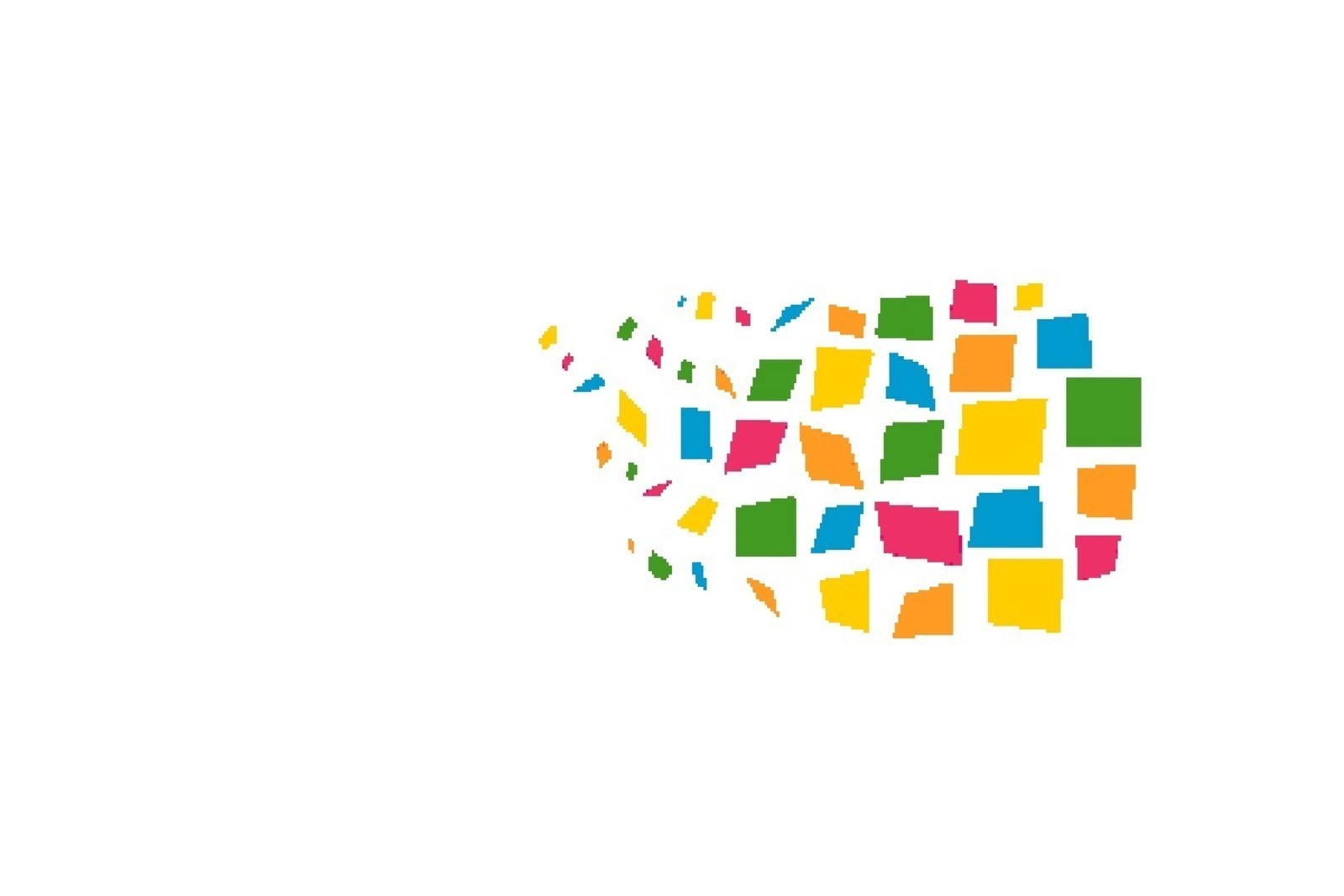
От автора
Начинаем наше представление. Эта книга – про /знаменитого/ писателя Евгения Попова,/ заслуженного работника культуры РФ/, лауреата престижнейших премий, чьи книги переведены на множество языков. Его произведения во многом определили пути развития русской прозы последней трети ХХ – начала нынешнего веков. О Евг. Попове высоко отзывались самые знаменитые его современники, ему посвящены многочисленные исследования в России и за рубежом.
Ничего удивительного: он всю жизнь писал и пишет уморительно-смешные и вместе с тем глубоко проникающие в саму суть национального характера вещи. Полагаем, что в понимании русской жизни «со всеми ее отчетливыми мерзостями и воспарениями» ему найдется мало равных среди современников даже самых раскрученных и именитых!
Эта книга – про человека, всю свою жизнь связавшего с литературой, официальной и неофициальной. Он был одним из редакторов-составителей легендарного альманаха «МетрОполь», гонимого прежними властями, ныне стал президентом Русского ПЕН-центра, /писательской правозащитной организации, состоящей, пожалуй, из самых качественных литераторов страны. Мало кто знает столько о подлинной сути прошлой и нынешней литературной жизни страны, закономерностях взлетов и падений писательских репутаций.
Здесь есть простые персонажи, но вы встретитесь и с настоящими литературными звездами. Среди них Василий Аксенов и Василий Шукшин, Белла Ахмадулина и Андрей Битов, Саша Соколов и Юрий Кублановский, Владимир Салимон и Андрей Вознесенский, Д.А. Пригов, Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский, Эдуард Русаков, Александр Кабаков, Анатолий Гаврилов… И все они живые, настоящие, как говорится, исключительно «без галстуков». Так что книга еще и о тайных и явных пружинах литературного механизма, что в прежнее время, что теперь. По ней, пожалуй, можно изучать историю русской литературы за последние 50 лет. И это будет «честная» история, без белых пятен и умолчаний.
Читателя ждут настоящие сенсации, о многом здесь рассказано впервые – и предельно откровенно.
И, наконец, эта книга просто о жизни, множестве ее подробностей и тайн, которых хватало и в Красноярске 50-х, и в (подпольной) Москве начала 80-х, и в нынешние посткарантинные времена хватает.
Все эти времена Евгений Попов проводил и проводит не унывая. Он, как и его друзья, отнюдь не чужд «веселия Руси»./ Он не боится скандалов, без особого испуга идет на обострение (обострение чего? Вообще сомнительные формулировки), если ситуация касается принципиальных (скорее уж сущностных!) вещей. И вообще – Евгений Попов сибиряк, этим сказано очень много. Поэтому книга – и о Сибири, сибирском характере, сибирском взгляде на мир.
/Ну а песня, по первой строке которой названа книга, попросту гениальна. В ней есть все, что надо знать о нашей жизни и нашей великой стране. То-то ее так любили Максим Горький и Федор Шаляпин./
Если коротко – всем нам непросто, но мы никогда не сдаемся, и малодушно бежать-отступать не намерены. Потому как бежать и некуда, и стыдно. Надо жить своей жизнью, и ничего не бояться.
Это прекрасно демонстрирует герой книги.
ГЛАВА I. ЧЕЛОВЕК ИЗ СИБИРИ
Сибирь. Родня
Наш герой родился 5 января 1946 в Красноярске. Старом, опорном городе Сибири. Сибирь – вот одно из ключевых слов, необходимых нам для описания поступков, странностей и достижений Евгения Попова. Да и характера его прозы, конечно, густо замешанной на сибирской бытовой и языковой культуре. Которая, как было понятно давно, отличается от культуры общероссийской.
Еще в 80-х годах позапрошлого века сибирский публицист и общественный деятель Николай Ядринцев писал: «Нам остается еще указать на одну черту местного характера, отмечаемую путешественниками и этнографами. Этою чертою, отличающею русское население на Востоке, признают "наклонность к простору, воле и равенству". Нельзя сказать также, чтобы это воспитание индивидуальной жизни прошло бесплодно. Оно закалило местный характер, приучило к труду, самостоятельности и самодеятельности. Такому обществу предвидится впереди не разложение, а развитие».
Книга Ядринцева называлась многозначительно: «Сибирь как колония» и вызвала резкое неудовольствие тогдашнего начальства. Правительство публициста преследовало; при советской власти его не печатали, хотя называли улицы его именем. Сегодня идеи Ядринцева и других так называемых «сибирских областников» поднимают на щит те, кто считает, что Сибирь серьезно отличается от России. А сибиряк – от жителя среднерусских равнин. И это должно быть как-то учтено в общегосударственной политике (чего не было никогда – и вряд ли будет, увы).
Несомненно, что первоначально население Сибири формировалось и пополнялось двумя категориями русских людей – те, кто был настолько социально активен, что не мог сидеть на своем клочке земли, «под барином», и рвался к чему-то большему. В Сибири, напомним, не было крепостного права. А еще те, кому сибирский транзит был предоставлен властями – опять же за их чрезмерную активность.
Третьим составляющим элементом народа Сибири стали местные жители. В большинстве своем они охотно ассимилировались с пришельцами, культурно, религиозно и лично. Оттого у сибиряков сплошь и рядом просвечивает в лицах нечто монголоидное, а обладатель ФИО Иван Иванович Иванов частенько оказывается, например, стопроцентным якутом.
…он пожирает
Очами чудные красы.
Тунгузки черные власы
Кругом повиты оргуланом
Он, разукрашенный маржаном,
На стройном девственном челе
Горит, как радуга во мгле.
В ее устах не дышат розы,
Но дикий огненный ургуй
Манит любовь и поцелуй
Это стихотворение неведомого сибирского поэта по фамилии, что характерно, Баульдауф, приведенное Ядринцевым, потом отзовется в произведениях одного из сомнительных альтер-эго Евгения Попова – Н.Н. Фетисова. Да и в родословной нашего героя, как увидим, без «тунгузок» (в широком смысле) не обошлось.
Повышенная социальная активность, наряду с отмеченными публицистом самостоятельностью и самодеятельностью, оставались основными чертами сибиряков и в ХХ веке. Несмотря на массовый террор, дикий уровень жизни и попытки тотального контроля всего и вся. Что, кажется, к 1946 году достигло своего апогея.
Но в том все и дело, что в самой глухой тьме сибиряк во все времена мог отыскать свой, частный огонек, и не дать ему погаснуть. Этот огонек мог называться «книга», или «водка», или «семья», или просто «что хочу, то и ворочу» – но за него сибиряк во все времена был готов биться.
Итак, отец Евгения Попова, Анатолий Евгеньевич, родился в июле 1910 года в с. Рождественское Казачинского района. Сегодня уже известно, что в семье священника. Однако подробности до конца неизвестны. Сам Анатолий свое происхождение скрывал. В советские времена такие сведения прятали особенно тщательно, да так, что уже потом было и не отыскать. Имеются, например, сведения о том, что настоящий дед нашего героя был расстрелян в 1919 году…
Как сказано в романе «Подлинная история «Зеленых музыкантов» (1998), «сам я уже много лет знал от пьяницы дяди Вани из Енисейска, что моего дедушку убили "красные" за то, что он был священником в большом сибирском селе К. на юге К-ского края, и что отец всю жизнь скрывал этот губительный для него факт биографии, числясь по анкетам "сыном учителя".
«Учителем», чьим сыном записывал себя Анатолий, был его отчим Василий Анисимович Федосеев, один из основателей Красноярского пединститута. Федосеев болел туберкулезом и умер перед войной. Евгений Попов вспоминает, что увидел фотографию Федосеева на стенде портретов основателей института – когда пришел туда заключать договор с директором (дело было во время работы в Художественном фонде). Директор института договор заключить отказался, от соблазна напомнить ему, чьего внука он видит перед собой, благоразумно отказался сам Попов.
Вообще же, по отцовской линии Евгения Попова можно считать сибиряком с незапамятных времен. Были в роду и священники – и представители малых сибирских народов, вроде «тунгузки» из процитированного стиха.
Отец героя в 1927 окончил 8 классов девятилетки, затем – Красноярский гидромелиоративный техникум (1931). После службы в армии с конца 1934 года был инспектором и техником Красноярской Гидрометеослужбы. Однако самым важным для него оказалось не это.
Анатолий Попов с детства увлекался спортом. Был заметным игроком в футбольной и хоккейной командах красноярского «Динамо». В этом качестве известен особо продвинутым фанатам красноярского спорта и сегодня. Ну а где команда «Динамо» – там и НКВД. Весьма образованный по тем временам (техникум!) Попов-старший стал офицером. Служил в МВД в звании капитана во время войны (на фронте не был), потом была командировка в Караганду на несколько лет (по сути – просто ссылка, которую он отбывал со всей семьей). С 1953 года Анатолий Попов в Красноярске работал в системе исполнения наказаний.
Карьеры не сделал. Крепко выпивал. В какой связи находятся эти два факта сказать сложно. То есть, пил из-за неудач по службе или не давали хода из-за столь распространенного порока? Или сыну священника ненавистна была сама служба?
В итоге – ранняя смерть от инфаркта, всего-то в 50 лет.
Как вспоминает сам Евгений Попов, он видел огромный том отцовского "дела" в красноярском МВД в 1961 году, когда его туда вызывали оформлять пенсию. Показали том – и спрятали, на руки не выдали. Ни тогда, ни после.
Предки по линии матери носили фамилию Мазуровы, прибыли в Сибирь в конце XIX века из-под Таганрога. Крестьяне. Жили в ближнем к городу селе Емельяново (теперь тут Красноярский аэропорт), затем в самом городе.
Мать героя Галина Александровна родилась 8 марта 1918 г. В 1937 году окончила в Красноярске десятилетку, в 1937 поступила в Красноярский Пединститут, не окончила, работала в Красноярском отделении Гидрометцентра, потом в детских садах, в начале 60-х в дошкольном секторе ГОРОНО… Умерла в 1970. Тоже, конечно, рано. Инсульт.
С отцом они вступили в брак 13 июля 1939 г. Помимо Евгения, у них была дочь Наталья (старше героя на 8 лет).
Как можно предположить, отношения с отцом были достаточно противоречивы – вряд ли ему нравились увлечения сына, проявившиеся достаточно рано. Но будучи человеком добрым – или слабым? А где проходит грань? – Анатолий Евгеньевич в его дела особо не вмешивался. Сам же герой много раз в своих рассказах вспоминает, как ударил пьяного отца палкой, чего тот вовсе не почувствовал (ну, не на это ли и расчет был). «Кроткий пьющий, офицер системы» – так назовет он своего отца много позже. Что, конечно, сразу вызовет в памяти другую пару «отец – сын» – также служащий в исправительной системе отец-Савенко (хоть и не пьющий особо) и его беспокойный отпрыск. Видимо, примета времени, в котором количество военных, а также з/к и их охранников было огромно: не то, чтобы Лимонов и Попов стали тем, кем стали из-за своих отцов. Будущие разрушители устоев не могли избегнуть такого родства просто по теории вероятности. (Офицерами разведки были и, например, родители еще одного писателя их поколения – Саши Соколова).
Много лет спустя Евгений Попов в одно из интервью скажет: «Я родителей вспоминаю с нежностью, несмотря на то, что у отца были крупные, как ныне выражаются, "проблемы с алкоголем". Мы жили в Красноярске в каких-то жутких квартирах с сортиром на улице, но у нас в доме было много книг. Родители не притесняли и не обижали меня, поощряли мои увлечения (фотография, музыка, потом – сочинительство). Мне была предоставлена полная свобода, в этом очевидно и заключалось "семейное воспитание". Родители любили меня, а я – их». Похороны отца описаны в одном из самых трагических и трогательных рассказов Евгения Попова – «Пение медных».
Но помимо отца с матерью маленький Женя Попов застал в живых и общался с большим количеством своих родственников – тоже, само собой, коренных сибиряков. Было у кого учиться этому самому сибирскому характеру!
Яркий эпизод произошел во время карагандинской командировки отца. Он описан не раз, приведем вариант из раннего рассказа «Сын офицера» (1963). «Бабка моя была седая и вздорная, она не любила никого на свете, а пуще всего Сталина. Только из принципа она набивала ведро вареной картошкой, морковкой, хлебом и относила в сарай, где заключенные все это съедали. Раз она повесила на окно кулек с сахаром. Соседка Захарова заметила это, и отцу влепили строгий выговор на партийном собрании.
Отец после собрания крепко выпил с офицерами и ночью выговаривал бабке, но она ничего не ответила, а только поджала губы, да и то потому, что он был единственным человеком на земле, которого она любила. Бабка забилась в истерике, когда он пришел как-то весной пьяный, весь извалянный в коричневой глине, без фуражки, с окровавленным лицом. У него до самой смерти оставался на лбу маленький шрам-самолетик, и он был единственным человеком на земле, которого любила бабка».
Речь идет о Марии Степановне, матери отца, которой пришлось потерять двух мужей, повидать на своем веку немало – и уж Сталина ей любить было точно не за что. Однако за редкими исключениями, вроде описанного выше, она никак своих чувств не проявляла (впрочем, среди своих в выражениях особо не стеснялась). Потому и сумела пережить тирана, хотя всего на несколько месяцев.
В своем романе «Душа патриота, или письма к Ферфичкину» (1983) Евгений Попов повспоминал своих многочисленных родственников, и родных, и двоюродных-троюродных, что называется, от души. И их образы крепко запоминаются читателю, наводя на размышления и сравнения со своей родней. Вот, например, двоюродный брат матери дядя Коля, виртуозный биллиардист и ловелас, его жена и другая родня по этой линии: «Он говорил тете Маше, что едет в командировку, и она собирала ему чемодан. А потом его однажды во время командировки в далекий город Таганрог(!) встречают в Татарской слободке у мясокомбината, где дядя Коля вышел утром из деревянного домика, утопающего в белых сибирских снегах, и, солидно ступая подшитыми валенками, в телогрейке-фуфайке, ясно, невинно глядя на окружающий мир, направился с двумя пустыми ведрами к ближайшей водоразборной колонке, стылой, с наледью. Тут его и встретила на беду тети-Машина подруга, донеся ей о встрече. Тетя Маша схватила бельевую веревку и побежала в сарай-дровяник. Никто не удивился. Она даже петлю не успела связать, как ее из этой петли вынули. Она вешалась и вешается каждую неделю, но ничего, пока что и до сих пор жива, дай ей бог здоровья!.. Тетя Маша тоже была на войне. Войну она вспоминала с женским веселием, любила петь лирические песни М.И. Блантера, Б.А. Мокроусова и В.П. Соловьева-Седого, а в минуты особого праздничного подъема, тут же переходящего в упадок, всегда исполняла неприличные куплеты про старушку и конный полк. Куплеты эти она называла «гусарскими». Ее свекровь, мать дяди Коли, баба Таня, моя троюродная бабушка, тоже трудилась по медицинской части Красного Креста и Полумесяца, была сестрой милосердия в Первую мировую войну, знавала полярника Папанина. И муж ее, деда Коля, мой непрямой троюродный дедушка, тоже служил фельдшером. В 10-е годы нашего бурного века он выехал на холеру со своим ночным горшком, «ночной вазой», как этот предмет деликатно именуют в ценниках, и малограмотная деревенская хозяйка, сибирская баба, сварила ему в этом горшке вкусные пельмени, ошибочно приняв «вазу» за новомодную городскую кастрюльку. Деда Коля блевал».
Родню сплачивала и необходимость держаться вместе, помогать другу другу в условиях, когда от чужих помощи ждать было нельзя. И – к сожалению – коммунальный быт, невозможно, немыслимо тесный по нашим сегодняшним представлениям.
После возвращения из Караганды никакой квартиры офицеру МВД не дали, несмотря на многочисленные рапорты. Семья с двумя детьми пополнила собой своеобразную семейную коммуну. В половине небольшого одноэтажного дома (разумеется, с печным отоплением и всеми удобствами на улице – даже за водой приходилось ходить на водокачку) жили 8 человек: две бабушки Жени, он сам, его тетя с сыном, ну и отец-мать-сестра. Подросшей сестре выгородили нечто вроде комнаты – натянули брезент до потолка... Были еще и жильцы, про которых с грустной иронией повествует рассказ «Как съели петуха» (были еще в этом домике, прямо в кухне и другие постройки, например, клетка-курятник). «Жили они недружно, но спали всегда вместе. И привыкли, да и деваться им обоим было некуда, так как жилплощадь их являла собой отгороженное фанерой пространство размером два на три, равняется шести квадратным метрам. Правда, фанера была до самого потолка. Тут уж ничего не скажешь».
При всем при том, это не была, конечно, классическая коммуналка. В такой успела пожить бабушка героя, причем ее соседом был ни кто иной, как знаменитый летчик Водопьянов (отдельных квартир, как видим, не хватало даже советским знаменитостям). Ну, конечно, столичных вариантов «48 комнаток – одна уборная» в Сибири все же не было. Тем не менее коммуналкам посвящен гневный пассаж нашего героя в романе «Подлинная история «Зеленых музыкантов» (1998) «На мой взгляд, "коммуналка" – одно из самых дьявольских изобретений большевиков. Поселить людей с их индивидуальными "интимностями" в одной квартире, где они имеют "равные права" в виде единственного сортира на десяток семей, означало обречь их на медленно прогрессирующее безумие в виде подмешивания мочи в борщ ненавистных соседей, устройства дюжины индивидуальных выключателей для жалкой, полуслепой общественной лампочки, фантасмагорических адюльтеров, заканчивающихся доносами в КГБ».
Повторим: принципиальная разница с близким родственным общением была в том, что всерьез «своим на своих» обижаться было не принято. И нелепо думать, что обходилось без конфликтов – разрешаемых, впрочем, чаще всего опять же «по-родственному». Вот пример – трагикомический сюжет про деда Пашу, считавшегося в родне шутником и мистификатором. «Он раздавил моего котенка. Это произошло так. У соседей окотилась за печкой кошка Мурка, и мы взяли себе котенка, назвав его Мифа в честь любимца тогдашней публики знаменитого французского шансонье Ива Монтана...
То есть – деда Паша был грузный мужчина, весьма еще крепкий в свои тогда (1956, 76 лет) годы, имел короткую стрижку цвета «соль с перцем», шубу хорошую, баранью, осенью надевал стеганый бушлат полуморской, летом – чесучовый пиджак, рубашку украинскую навыпуск, расшитую петухами, опоясанную крученой веревкой с кистями. И всегда ходил деда Паша в сапогах, которыми топал отчаянно, под ноги совершенно не интересуясь глядеть. Вот вам и весь сказ. Был котенок, и нету котенка. Пришел деда Паша, топнул сапогом, не интересуясь глядеть под ноги – и нету котенка. Даже и не пикнул котенок.
– Старая падла! Дерьмо! Кулак сраный! […] – мысленно шептал я деде Паше, глядя на него с недетской ненавистью.
А деда Паша заулыбался и мне говорит:
– А вот посмотри, что у меня там в шубе в карманах есть, я шубу на вешалку повешал, у меня там в шубе в карманах, ты посмотри, что там в шубе в карманах есть...
– Вы, деда Паша, зачем мне котенка раздавили?
– А? Что? – Деда Паша наконец-то поинтересовался взглянуть себе под ноги и отчего-то совершенно даже не смутился.
– Вишь какой махонький был, – сказал он с некоторым даже укором, после чего ушел из кухни в комнату пить чай из чайного стакана и водку из граненой стопки синего стекла».
История с несчастным романным котенком (про которого мы даже точно не знаем, был он или нет на самом деле) вполне адекватно описывает сибирский характер. Нет заданных размеров – но не бывает и берегов. Сибирь!
Продолжение следует…
