-6 °С
Снег
Все новости
ЛИТЕРАТУРА
17 Октября 2018, 13:48
Вспоминая Мустая
Вячеслав СТРИЖЕВСКИЙ Первая встреча В качестве фоторепортера я приступил к работе в январе 1963 г. Мне тогда было 22, и я был похож на растерянного старшеклассника. Худой, профессионально совершенно неподготовленный, но тщеславный. Худоба с годами стала умеренной полнотой, профессионализм со временем также появился, а тщеславие стимулировало учебу, работу, снова учебу и работу…
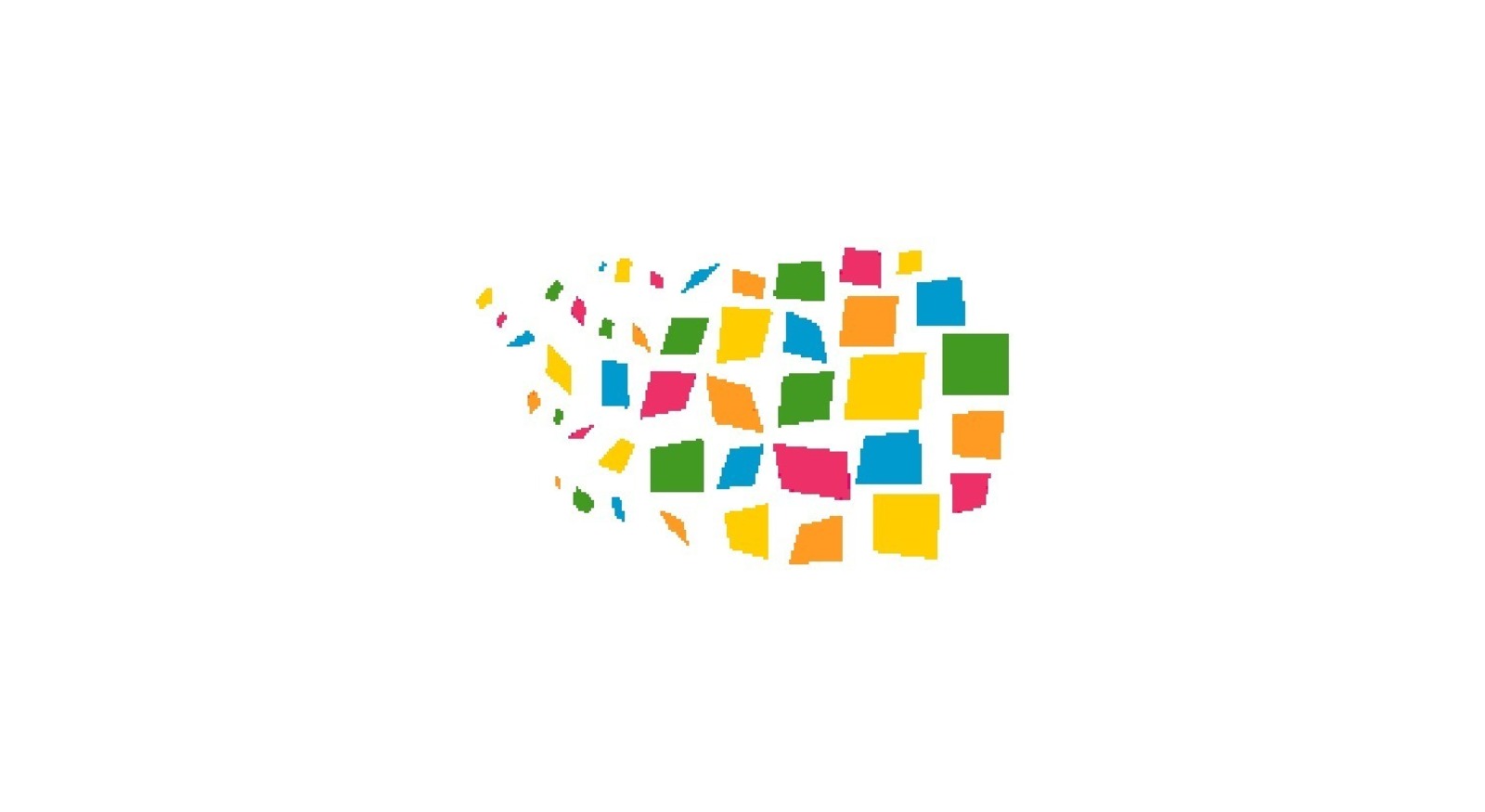
Особенно мне нравились съемки спортивные, театральные и знаменитых людей, не потому что на таких съемках было легче, чем на заводе или в поле, это просто было интересно и познавательно.
Меня никто не представлял великому Мустаю, но так сложилось, что несколько раз пришлось фотографировать его: на встречах с читателями, на государственных мероприятиях, в театрах. Вероятно, я примелькался настолько, что мы начали здороваться. Тем не менее, был чрезвычайно удивлен его телефонному звонку с приглашением на фотосессию. Дело в том, что предполагалась книжная выставка в Венгрии, и москвичи-организаторы этого проекта попросили изготовить небольшой буклет о нем, как участнике выставки.
Я тщательно подготовился и пришел на квартиру поэта в назначенное время. Он жил тогда на улице Кирова, по сегодняшним меркам в скромной квартире. Из крошечной прихожей – длинный коридор на кухню, откуда шли вкусные ароматы беляшей. В этот день квартира поэта была похожа на павильон киностудии. Зал, кабинет оказались «оккупированы» творческой бригадой Свердловской киностудии, снимавшей о Мустае Кариме документальный фильм. Не без труда пробился через расставленные осветительные приборы, «топтался», мешая режиссеру и оператору. Они на меня «цыкали», так как я объективно мешал им, но все же десяток кадров удалось сделать.
После съемки шел в редакционную фотолабораторию с плохим предчувствием, которое меня не обмануло. Все снимки были «забиты» светом и съемку нужно было повторить.
Утром следующего дня позвонил Мустафе Сафичу и признался во всех грехах. Извинялся и просил разрешения поработать еще раз. Он великодушно успокаивал меня:
– Фотография тоже творческая работа, а как известно, художник имеет право на неудачу.
Одним словом, я был приглашен повторить съемку.
Морозное зимнее утро. Бегу на улицу Кирова. Вот третий этаж, квартира № 20, звоню.
Дверь открыла женщина невысокого роста. Голова тронута сединой. Мне показалось, с грустными глазами. Она сказала: «Проходите, Мустай Вас ждет».
Мустай встретил меня в дверях своего кабинета.
– Ну, что поработаем или побалуемся беляшами и чайком?
– Поработаем, – торопливо ответил я.
– Тогда присядь здесь, я «фрак» одену.
Я сидел на диване, ожидая Мустафу Сафича, в оправдание что-то лепетал, вроде того: «извините меня, помешали киношники, так неловко получилось, киношники»… Он появился в проеме двери, застегивая пуговицы на рубашке.
– Ну, что ты Слава. В руках мастера глине больно не бывает. Пока я «переваривал» смысл этого «афоризма», он громко позвал супругу:
– Рауза, Рауза, иди сюда.
Рауза-апа прибежала с кухни в фартуке, руки в муке.
– Что, что случилось?
Мустай повторил фразу и продолжил ее на башкирском, весь светился, глаза были полны счастья. Он явно был доволен удачно найденной строкой.
Я вспоминаю этот момент и кажется, что мне посчастливилось не только слышать, но и видеть рождение стиха. Воодушевленное состояние поэта, его «взвинченный взгляд», пластику рук, интонацию голоса.
Наступила тишина, все мы, я, Рауза-апа и сам Мустай оценивали «творческую работу». Первая ее нарушила Рауза-апа, сказав совсем не сердито:
– Ну, тебя, Мустай, так напугал меня. Давайте заканчивайте, и идемте есть беляши.
Мне остается подтвердить, что многие гости Мустафы Сафича знали: беляши в доме Каримовых были отменные.
Настоящая литература
Морозный, солнечный день. Холодно. В такую погоду из дома выходить не хочется. Хотели уж отменить репетицию. Нежданно звонит кто-то из начальства, не помню уж кто.
– В Уфе гостит Михалков Сергей Владимирович. Соберите актеров, он хочет прочитать свою новую пьесу. Пообещайте взять ее в работу, скажите ему добрые слова, все-таки он написал не только «Дядю Степу», но и гимн Советского Союза.
С.В. Михалков приехал с молодой, симпатичной дамой, как потом выяснилось женой. Она, не снимая светлую дубленку, села на стул в сторонке и с нескрываемым интересом следила за происходящим. Мустай Карим дружил с Сергеем Михалковым и сопровождал его.
В зеркальном зале русского драмтеатра, за огромном столом, где обычно проводились застольные репетиции, собрался актерский коллектив. Тогда был период, что в театре не было ни главного режиссера, ни художественного руководителя, и я оказался в связи с этим недоразумением за всех, рядом с Сергеем Владимировичем за «старшего». Он тихонько подтолкнул меня плечом и сказал:
– Ну, что директор, возьмешь мою новую пьесу (пьеса называлась «Что написано пером, не вырубишь топором»), а то отдам москвичам. Сергей Владимирович негромко, слегка заикаясь, читал, время от времени заразительно смеялся, а актеры робко его поддерживали.
Пьеса была не лучше и не хуже его прежних работ. Он закончил читать и спрашивает:
– Ну что скажете?
Все молчали. Сергей Владимирович вновь обращается ко мне:
– Бери пьесу, директор, а то отдам в другой театр.
Я робко говорю:
– Сергей Владимирович, оставьте пьесу нам, мы ее еще почитаем, и, наверное, возьмем в репертуар.
Михалков снова обратился к артистам. Ни то от прохлады в репетиционном зале ни то, потому что автор не заразил актеров сюжетом пьесы, контакта Сергея Владимировича с артистами не сложилось. Все молчали. И тогда сидевший за столом напротив Михалкова Мустай Карим, откинувшись на спинку кресла и скрестив руки на животе, тихо, по-театральному, но так, чтобы все слышали сказал:
– Ну, что ты Сергей, это же настоящая литература.
И слова Мустафы Сафича артисты поддержали дружными «долго несмолкающими» аплодисментами. Вот так закончилась эта встреча.
Худсовет не взял эту работу в репертуар, но через два года пьеса Сергея Михалкова «Что написано пером, не вырубишь топором» появилась в афише Московского Театра Сатиры. Бывают случаи, когда у артистов провинциального театра больше свободы выбора, чем у москвичей. Но и в театре Сатиры спектакль не задержался. Просто материал этот опоздал лет на десять, пятнадцать. Однако, память о встрече с Сергеем Владимировичем и Мустафой Сафичем нам надолго запомнилась замечательной фразой «Да, что ты, это же настоящая литература!»
Творческая единица
Сорокалетие Победы в Великой Отечественной войне отмечалось широко, с размахом. Торжественное собрание проходило в Республиканском русском драматическом театре, где я уже два года был руководителем.
На театральной площади и в парке имени Мажита Гафури было народное гуляние. По-настоящему солнечный день, совсем не майский, теплый, какой-то лучезарный, способствовал праздничному настроению и большому скоплению людей, самых разных: ветеранов с орденами на сохранившихся фронтовых гимнастерках, вдов с портретами погибших мужей, молодежи, детей.
В театре был день «открытых дверей». Подготовлена концертная программа.
Накануне праздника я позвонил Мустаю Кариму, поздравил его с Днем Победы. Думаю, все знают, что Мустафа Сафич – участник войны, в боях был тяжело ранен. И на правах давнего знакомого говорю:
– Мустафа Сафич, у нас в театре концерт для ветеранов войны. Прошу Вас, если сочтете возможным, выступите с приветственным словом.
– А кто еще будет выступать?
– Я хочу попросить сказать слово Героя Советского Союза Бабушкина.
После паузы Мустафа Сафич сказал:
– Нет, Слава, я не смогу выступить.
– Мустафа Сафич, как же так, такой замечательный праздник, будет много народа. Участники войны будут счастливы увидеть и услышать Вас.
– Нет, – твердо сказал Мустай Карим, и в его голосе появились «железные» нотки, не присущие, как мне казалось раньше, его характеру.
– Очень жаль, – пролепетал я.
– Видишь ли, – продолжил Мустафа Сафич, – вдруг Бабушкин выступит лучше меня, я расстроюсь, а если я выступлю лучше Бабушкина, он огорчится. И вообще Слава, запомни, я – самостоятельная творческая единица.
На этом разговор был окончен.
Мустай Карим на празднике был и выступал, разумеется, не по моему приглашению. По наивности и неопытности я превысил свою компетенцию. К счастью, Мустафа Сафич не упрекнул меня за некорректность. Воспитательная работа с молодым директором театра ограничилась лишь телефонным разговором. Понятно, что Бабушкину я не звонил. И думаю, что это было верное решение. Теперь-то я понимаю, что Мустафа Сафич беспокоился не о себе, а о Бабушкине, достойном скромном человеке, конечно, не владевшим словом так, как это было присуще великому поэту.
Проводы гостя
Однажды, зимним вечером я задержался у Мустая Карима. Помню лишь, что разговор был о делах театральных. Тема для нас обоих небезразличная. В новой квартире на улице Энгельса в большом кабинете, где у Мустая был фирменный письменный стол и если сесть за него, то в окно видно не обустроенное пространство, заросшее кустарниками и гаражами. Налево от рабочего места поэта на «гвозде» висела дюжина уздечек от подаренных поэту скакунов. Лошадей Мустафа Сафич пристраивал, а уздечки оставлял на память. Дальше две большие стены заняты стеллажами от пола до потолка, заставленными книгами. Ни у кого из писателей такой большой и роскошной библиотеки я не видел, разве что у драматурга Тагира Тагирова (Т.И. Ахудзянова). Посередине комнаты стоял еще один стол, сделанный из неокрашенных досок, ну такой, как некоторые люди ставят на дачах. Стол прост и красив, еще с запахом дерева. Именно за этим столом Мустай Карим принимал посетителей. Засиделись – пора прощаться. Мы вышли из кабинета в прихожую. Мустай снимает с вешалки мое пальто и подает его мне, распахнув по-старорежимному. Такое внимание меня повергло в смущение.
– Ну, что Вы, Мустафа Сафич, я сам оденусь.
– Не стесняйся Слава, одевай.
– Да неловко как-то, отдайте мне пальто.
– Одевай-одевай, я же не швейцар, я Мустай.
Я с облегчением, под обоюдный смех, одел пальто, а Мустафа Сафич сказал:
– Эту шутку придумал не я, а Александр Твардовский. Однажды, провожая меня, он подал мне пальто и сказал: «Не стесняйся Мустай, надевай, я же не швейцар, я – Твардовский».
В устах выдающихся поэтов такая шутка приобретала не только оттенок самоиронии, но и мудрого созерцания самих себя.
Продолжение следует…
Выбор редакции
Новости партнеров
