-9 °С
Облачно
Все новости
СОБЕСЕДНИК
14 Марта 2019, 13:14
В многогранном алмазе лучится свет
Алексей ЧУГУНОВ «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков, крепость успеха в несчастии, в счастии – украшение, везде верный и безотлучный спутник», – сказал однажды Михаил Васильевич Ломоносов.
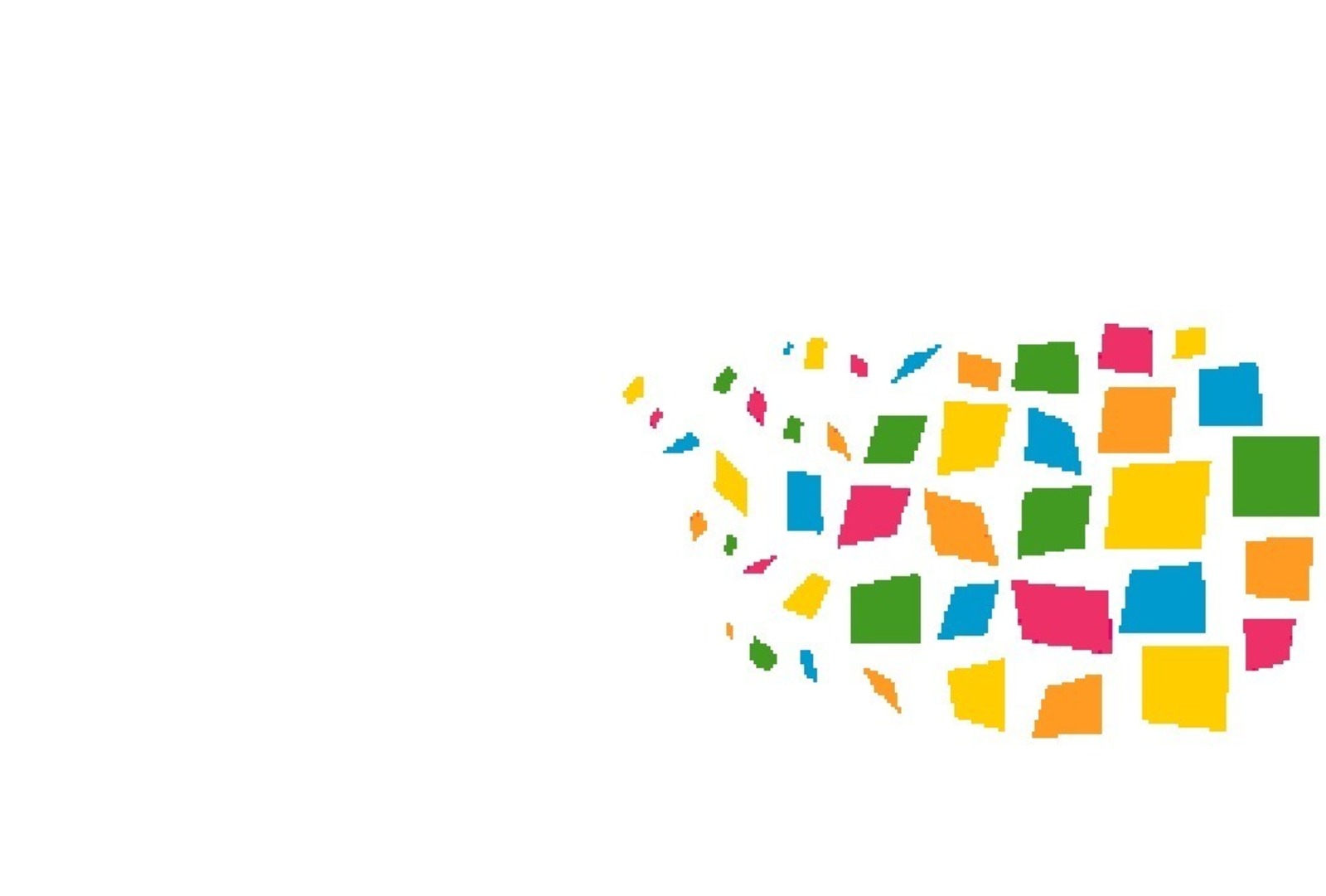
Есть такая когорта людей, занимающихся трудом, неприметным первоначально обыкновенному обывателю. Их деятельность чем-то схожа с муравьями. Те копошатся, суетятся и в конце концов воздвигают муравейник с его уникальной структурой. Суматошность муравьев частью не разборчива, не понятна для любопытного глаза, а для иных – и вовсе не видна. Так и с миром науки. Ученые в стенах учреждений рождают будущее: в чашке Петри – вакцину от всех болезней; на испытательном стенде – двигатель, работающий на воде; в нейронных сетях – искусственный интеллект; на грифельной доске решают математические задачи века; в ДНК пытаются активировать ген бессмертия.
…Институт нефтехимии и катализа РАН, а рядом «дребезжит и рычит» проезжая часть проспекта Октября – суета во всем своем проявлении. И в том институте работает выдающийся ученый Усеин Меметович Джемилев – советский, российский химик-органик, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент РАН, академик Академии наук Республики Башкортостан, заслуженный деятель науки БАССР. А по-простому – примечательный, интересный в общении человек!
Родился Усеин Меметович Джемилев 15 мая 1946 года в селе Османа Юсупова Ташкентской области Узбекской ССР.
В 1968 г. окончил с отличием Казахский химико-технологический институт в городе Чимкент (1963–1968) по специальности «Химическая технология пластических масс». После окончания института работал старшим лаборантом, инженером лаборатории химии алкалоидов в Институте химических наук АН Казахской ССР. Поступил в 1969 г. в аспирантуру в Институте химии Башкирского филиала АН СССР в Уфе, где научным руководителем был Г.А. Толстиков. С 1972 по 1977 гг. – младший, затем старший научный сотрудник отдела нефтехимии в Институте химии Башкирского филиала.
С 1977 г. стал заведующим лаборатории каталитического синтеза Института химии БФАН СССР и наряду с этим работал заместителем директора Института органической химии Башкирского научного центра УрО РАН. С 1992 г. – директор Института нефтехимии и катализа Академии наук Республики Башкортостан и УНЦ РАН. С 1993 г. – заместитель председателя Президиума Уфимского научного центра РАН. С 2011 года – Председатель УНЦ РАН. С 1990 г. – член-корреспондент РАН. С 1991 г. – академик АН РБ.
Дважды лауреат премии СССР и РФ в области науки и техники: в 1990 г. – за внедрение новых веществ и продуктов для ракетно-космической техники и в 2003 г. – за открытие новых реакций, разработку эффективных металлокомплексных катализаторов с ранее недоступной активностью и селективностью действия, а также нового класса металлоорганических реагентов. И лауреат премии им. А.М. Бутлерова за выдающиеся заслуги в области органической химии в 2009 г.
…Беседа в непринужденной обстановке. Звякает ложечка в чашке с дымящимся чаем. Скатерть роскошная с вышивкой.
Огромная тарелка с черносливом, финиками, курагой, грецкими орехами и несколько коробок с шоколадными конфетами. Все здесь устроено, проделано с присущей старательностью, будто находишься дома.
– Ваши первые ощущения при приезде в Башкирию?
– Пришлось принять ординарное-неординарное решение. Все-таки ехать куда-то за тысячу километров, оставив сына и жену. Сами мы в общежитии ютились. К счастью, мои родители жили в Узбекистане: они и помогли с проблемой. Первое мое знакомство с Башкирией, можно сказать, произошло из иллюминатора прилетевшего самолета, кажется, ТУ-134. Что меня собственно поразило – поля, деревья зеленые, а ведь сентябрь, и довольно тепло. А в тех краях, откуда я прибыл, – выжженная степь, пожелтевшие высохшие растения. Здесь, как ни странно, иначе.
– И все-таки ваш выбор пал на химию! Что послужило толчком для принятия судьбоносного решения?
– Я из простой семьи. Когда учился в классе пятом-шестом, мама моя по состоянию здоровья не могла уже работать – фактически занималась моим воспитанием, при этом требуя, чтобы я учился и учился с необходимой старательностью. Я же, в свою очередь, мечтал: вот когда вырасту – обязательно придумаю лекарство от всех болезней, чтобы помочь матери.
Живя в Узбекистане, обучался я в одной из лучших школ – в школе имени М. Ломоносова. На мое счастье, к нам в Среднюю Азию по разным причинам (может, по политическим) засылали талантливых педагогов. Был среди них и голландец. Учительница по химии – Анастасия Фёдоровна из города Иванова. По физике – кореец. Что примечательно, у нас очень много жило корейцев. В нашем классе половина учеников – корейцы. И они, между прочим, очень драчливые по характеру и при этом весьма трудолюбивые. По математике и географии – учителя корейцы. По призванию учителя! С нами они занимались основательно: проводили дополнительные занятия, приходили на дом.
В воскресный поздний вечер, когда небо окрашивалось в черные тона, нам учитель по астрономии показывал, где какое созвездие или звезда расположены. И в силу поразительных интереснейших уроков, мне хотелось быть и физиком-ядерщиком, и медиком. Но в медицинский поступить – свои сложности. И тут появляется объявление о приеме в химико-технологический институт в городе Чимкент в Казахстане с новой специальностью – технология пластических масс. В то время, в годы шестидесятые, в полимерной химии мы сильно отставали от Запада. И тогда как раз вышло постановление ЦК КПСС о развитии нового направления в химии. К химии я тоже питал нежные чувства – наравне с другими точными науками. Таким образом я сделал свой выбор!
– Какой вы по характеру? И в детстве, и сейчас?
– Говорят, характер складывается до трех лет. Обо мне, наверно, лучше кто-нибудь другой скажет, чем я сам. Я в меру честолюбивый… такое здоровое честолюбие. Не скрою, мне всегда хотелось быть первым. Ставил цель при любых обстоятельствах: надо выучиться, окончить институт, защитить кандидатскую, докторскую. И, конечно, добиться многого в науке, чтобы принести пользу своему Отечеству. По характеру, я, скорее, холерик, нетерпелив. Мне претит медленная работа! Я требователен к себе и требователен к своим коллегам.
– Чем, по вашему мнению, отличается ученый времен Советского Союза от ученого нашего времени в плане научной деятельности и культуры?
– Мы тогда работали коллективно на пользу нашего государства. И мы почти не отличались друг от друга в материальном отношении. Зарплата четкая, фиксированная. К примеру, младший научный сотрудник получал 135 рублей. Старший научный сотрудник – 250 рублей. Я молодой доктор наук – 500 рублей, а министр СССР получал 600 рублей.
Огромная разница в ответственности, а зарплата, посчитай, одинаковая. Она была равной по всей стране, а в северных регионах даже доплачивали, в связи с тяжелыми условиями. Отсюда ясно – государство науку лелеяло и ценило. Мы могли заниматься фундаментальными исследованиями, не думая о том, понадобиться это или нет, реализовывая свои научные амбиции. В 90-е годы, в период распада страны, а я могу назвать точную цифру, уехало за границу за короткий промежуток времени порядка 500 тысяч человек – молодые, яркие умы науки.
Бывало, три месяца не поступало финансирование из федерального бюджета. В 2006 году Академия наук немного воспряла духом. Стали покупать современное оборудование, в разы увеличилась зарплата. Мы вздохнули: «Ну наконец-то!» Но в 2013 году вдруг отдают все институты в организованный департамент, где руководителями становятся не научные сотрудники.
А это все равно, что я, химик, пойду учить хирурга делать операцию. Финансирование опять резко упало. И, находясь в нелегких условиях, мы пытаемся адаптироваться. Зарабатываем гранты, тесно контактируем с промышленностью. Мы живем сейчас и трудимся по принципу Льва Ландау: «Каждый имеет достаточно сил, чтобы достойно прожить жизнь. А все эти разговоры о том, какое сейчас трудное время, – это хитроумный способ оправдать свое бездействие, лень и унылость. Работать надо, а там, глядишь, и времена изменятся».
– При всей занятости, вам удается находить время для чтения ненаучной литературы? Вы читаете художественную литературу?
– У меня, как правило, любят читать писателей-классиков моя супруга и дочь. Кого только не читают. И Антона Чехова, и Достоевского. Приходилось в «застойное» время стоять в очереди, чтобы заполучить вожделенные книги. Я же, может в меньшей степени, читаю подобное. Однако влечет меня серия «Жизнь замечательных людей» или – как их называют – ЖЗЛки. Меня жутко интересовало, как тот или иной человек на любой точке земного шара добился невероятных результатов или совершил открытие. Как он стал выдающейся личностью? Больше, конечно, влекли физики: Ландау, Петр Капица, Зельдович, Ипатьев. Запоем читал тогда и перелистываю до сих пор генетиков, химиков, математиков, биологов.
– Как известно, вы коллекционируете живопись. Какие вам художники-живописцы больше импонируют, производя яркие впечатления?
– Я коллекционирую… а так получилось, что сын моего учителя Генриха Александровича Толстикова стал художником. Сейчас он действительный член академии художеств и член-корреспондент Российской академии наук – химик. Пошел по стопам отца. И, наверно, при общении с семьей Толстиковых я и втянулся в мир изящного искусства. В 80-е годы начал приобретать картины, преимущественно современников.
Есть у меня несколько работ уфимского художника Сергея Александровича Краснова. В институте висят холсты учеников Краснова, и есть картины из Эрмитажа, копии. И что любопытно, копии выглядят куда лучше, чем оригиналы. Сочные, свежие мазки! На даче и дома – «красоты» Белецкого, мужа академика Ирины Петровны Белецкой. Он сам окончил архитектурный, но по жизни был художником-самоучкой.
Раньше произведения людей с художественным и аллюзивным взглядом всегда волновали – до трепета. Да и сейчас глянешь на картину – и отдыхаешь душой, и стремительные мысли одолевают. Если их снять вдруг здесь, в институте, сразу будет чего-то не хватать. Голые стены начнут давить своей каменной пустотой.
– Еще вы с удовольствием занимаетесь на дачном участке.
– Да есть такое! Дача у меня на Чесноковской горе. А раньше была в Юматово, где мы соседствовали с Толстиковым. Однажды весной там сгорело три дома, в том числе и моя дача. То ли кто поджег?.. А скорее – от листьев сухих, которые тогда жгли, уголек подкрался и… Конечно, люблю возиться в земле, ухаживать за деревьями, цветами, если позволяет время.
– Вы знакомы с газетой «Истоки»? Можете выразить свое мнение о ней?
– Раньше, когда я впервые услышал об «Истоках», мне почему-то подумалось, что это как бы «бонус» от Муртазы Рахимова, как частная газета. Оказалось, – государственная газета, где публикуются сердечные замечательные статьи. Я считаю, что освещать нашу жизнь, быть рупором и показывать культурную жизнь необходимо в любой период человеческих отношений. И хорошо, что она вне политики и серости. И несет свой ослепительный свет!
Не зря в самом начале статьи начертаны «крылатые слова» Михаила Ломоносова. Усеин Меметович Джемилев чем-то схож с поморским самородком-гением. Он тоже всесторонне развит, и его пытливый ум не знает усталости.
Помимо промышленно-нефтяных исследований, институт параллельно занимается новыми лекарствами. И в это трудно поверить – отчасти проблемой рака, раковых опухолей. На основе новой идеологии они пытаются найти ингибиторы, которые помогут помешать делению раковой клетки.
Институт – храм высоких знаний и надежд. И здесь не покривишь душой. Какое грядущее нас ждет?! Но достоверно одно: благодаря открытиям, достижениям науки – меньше владеть нами будет мрак.
Выбор редакции
Новости партнеров
