-9 °С
Облачно
Все новости
ТЕАТР
6 Ноября 2020, 20:06
Младшая муза
Начался осенний музыкально-театральный сезон, и двери всех храмов искусства гостеприимно распахнулись перед нами. Бывая в оперном театре, я иногда вижу вас, мои юные собеседники. Чаще всего мы с вами встречаемся на балетных спектаклях. Но, наверное, глядя на сцену, на это красочное и эстетичное зрелище, не все из вас задумываются, откуда и когда пришел к нам балет, какие мастера создавали эти блестящие творческие фантазии, чья деятельность способствовала выдвижению русского балетного театра на одно из первых мест в Европе.
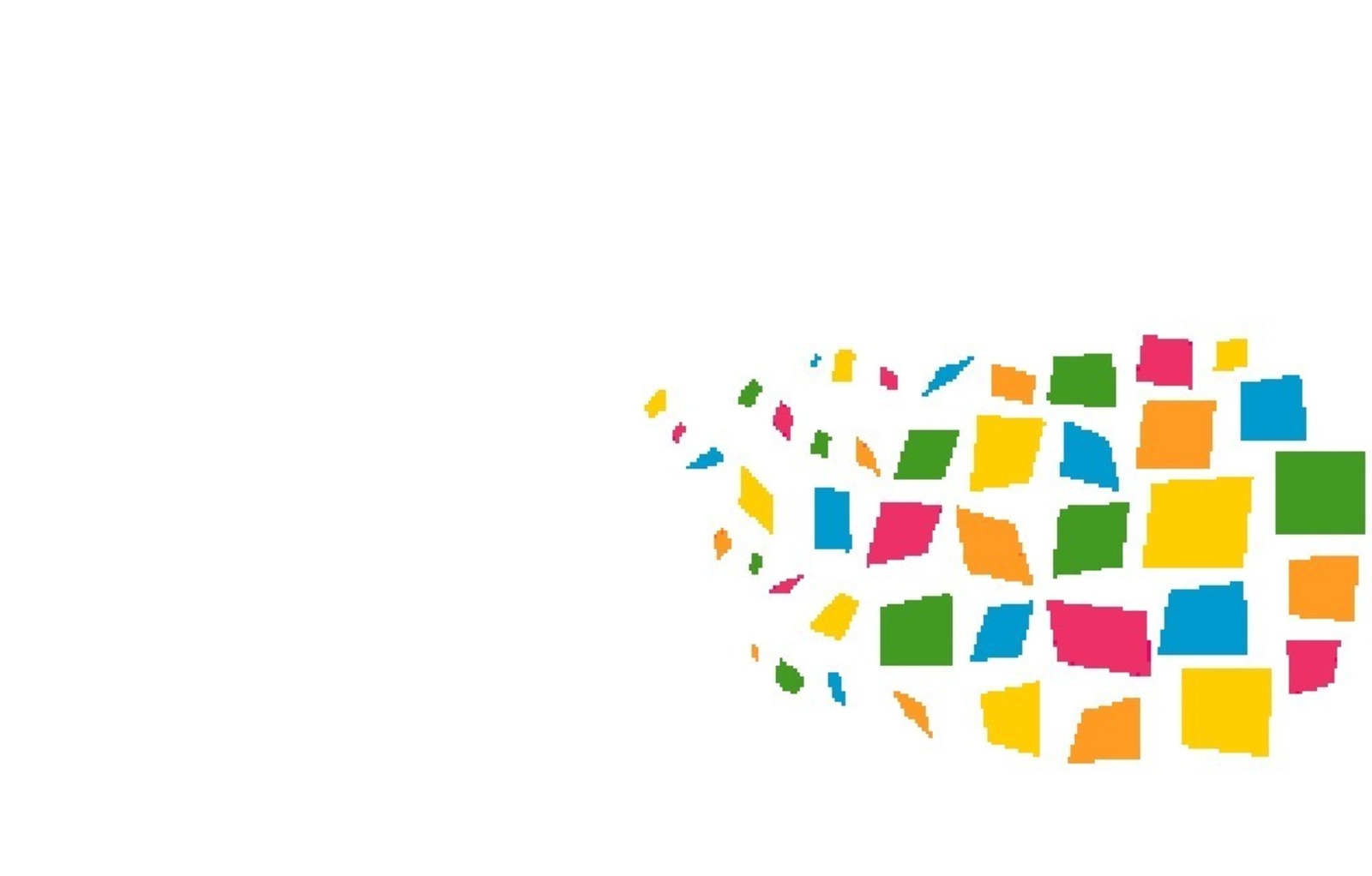
«ТЕАТР УЖ ПОЛОН»
Оглядите зрительный зал в момент, предшествующий спектаклю, когда театральное здание глубоко вздыхает, оживает, шумит и наполняется радостно-возбужденной толпой. Наконец выходит дирижер, оркестр играет увертюру, и мы, притихшие, ждем какого-то необыкновенного, таинственного происшествия. С последним аккордом музыки поднимается занавес, и представление начинается…
…В начале XIX века балет в России был на пике популярности. Весь этот праздничный мир актеров, зрителей, танцовщиц, балетмейстеров был близок интеллектуальной элите пушкинской поры. Их вкусы, интересы и увлечения отражали моду того времени. Бурная пора юности Пушкина тесно переплетается с пестрой, ярко мерцающей и вечно изменчивой жизнью кулис и сцены. Поэт впитывал в себя ее разнообразные впечатления, формирующие творческие замыслы.
Представим Пушкина в театральных креслах… Зал уже освещен мягким светом люстры, но рампа еще погружена в сумрак. Поклонники Мельпомены ведут увлекательные диспуты, крепостные оркестранты настраивают свои инструменты, партер оживляется… И вот с медленной постепенностью начинают зажигаться огни. Толпа в напряженном ожидании, томясь по звукам и действию, затихает, – «и взвившись, занавес шумит…».
ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ…
Там, в партере, где много времени провел поэт, вероятно, рождались крылатые строки «Евгения Онегина». На страницах романа Пушкин не только отразил авторские откровения, но запечатлел и портреты своих просвещенных современников – ценителей театрального искусства. С трепетом он ожидал выхода первой солистки, «блистательной, полувоздушной» Истоминой:
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит…
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.
Непревзойденный художественный слог поэта рисует образ русской Терпсихоры, ее грацию и одухотворенность. Крупнейший педагог-балетмейстер Агриппина Яковлевна Ваганова пыталась установить, какие пируэты исполняла балерина, но тщетно. Никто еще не придумал, как словом изобразить движения танца, как передать «душой исполненный полет». К тому же, техника балета настолько сложна, что постороннему глазу невозможно одновременно охватить «движущиеся кадры» театрального действия, уловить хореографический рисунок и при этом отразить пластику танцовщицы в рифмованной строке. Да Пушкин и не стремился к этому. В немом восхищении «обожатель очаровательных актрис» лишь пытался остановить мгновение, впечатав в одну из «пестрых глав» романа эффектные арабески и каскады вращений волшебницы танца.
Если пушкинские строки являются хрестоматийными, то со стихами Александра Грибоедова, посвященными не менее известной балерине Телешовой, мы мало знакомы. Его изящное перо создает «тончайшим облаком обвитый» образ, пробуждающий романтические грезы. Обратите внимание, каким изысканным языком представляется нам необыкновенная прелесть балерины, поразившая пламенное воображение поэта:
И вдруг – как ветр ее полет!
Звездой рассыплется мгновенно,
Блеснет, исчезнет, воздух вьет
Стопою, свыше окриленной…
Когда и где появился этот новый вид драматического искусства? Как он оказался в России? Любой более-менее сведущий в балете будет утверждать, что искусство танца – приоритет Франции. Вы, наверное, слышали французскую терминологию танцевальных номеров: па-де-де (вдвоем), па-де-труа (втроем); разные шаги и движения тоже имеют соответствующие обозначения, к примеру, жете – «бросать» – относится к движениям ног, арабеск – одна из основных поз классического танца, па-де-ша – «шаг кошки», па-де-пуасон – «рыба», большой прыжок с перегибом корпуса назад.
А что о балете скажет нам словарь? Убедившись, что слово «ballet» произошло от итальянского «ballo» – «танец», «пляска», заглянем в отдаленное прошлое. С конца XV века более 60 лет французские короли жаждали покорить раздробленную Италию. И в ходе долгих войн побежденные итальянцы учили победителей-галлов своим законам. Завоеватели были поражены высокой художественной культурой, увиденной за Альпами, традиции которой стали перенимать. Король Франциск I пригласил в Париж самого Леонардо да Винчи, который остался там до конца своих дней. Сотни итальянцев, в том числе музыканты и учителя танцев, потекли на Север, обретая при французском дворе широкое поле деятельности. Если вести летоисчисление с появления первого балета в 1581 году («Цирцея»), которому в этом году исполняется 425 лет, не считая кино, он рядом с музыкой, поэзией, живописью и архитектурой – самое молодое искусство.
Балет родился при дворе, а участниками представлений были придворные. Но постепенно балетные спектакли становились достоянием публики. То было время, когда женские партии поручали мужчинам. Так, в «Королевском балете Ночи» роль юной грации исполнил впервые выступавший на сцене молодой итальянец Джованни Баттиста Люлли. Он не только был танцовщиком, но и виртуозно играл на скрипке, гитаре, очень рано проявил способности к композиции. Люлли оказался первым, кто сочинял музыку для всего балета, что придавало осмысленность и целостность спектаклю.
В 1669 году в Париже открывается Королевская академия музыки, в наше время известная под названием «Гранд-опера». Предприимчивый Люлли купил выданный королем патент и стал властелином нового театра, в постановках которого танец «под легким покрывалом поэзии» становится музыкой для глаз.
Время шло, и балет не ограничивался Францией. Продолжая, хотя и скромно, жить в Италии, он постепенно стал продвигаться по странам Северной Европы – Англии и Голландии, Швеции и Дании, затем появился в Австрии и России.
Когда наблюдаешь, как танец из развлечения становился искусством, приходится признать, что произошло это все же во Франции, и, стало быть, именно ее следует считать истинной родиной балета. Но в этой версии можно усомниться – хотя и появилась младшая муза во Франции, родители ее были преимущественно заезжие итальянцы.
Даже в XIX веке балерины, покорившие Париж, не были француженками. Фанни Эльснер – австрийского происхождения, совершенствовалась в Италии; Люсиль Гран – датчанка; Карлотта Гризи и Фанни Черрито – итальянки. Их соотечественница, знаменитая Мария Тальони в балете «Сильфида» первая стала танцевать на полупальцах и широко применять позу арабеск. Кстати, и во второй половине девятнадцатого столетия, в эпоху Мариуса Петипа, выдвинется новая плеяда итальянских артистов, самых сильных виртуозов той поры, – Карлотта Брианци, Пьерина Леньяни, Энрико Чекетти.
«ТАМ И ДИДЛО ВЕНЧАЛСЯ СЛАВОЙ»
Современники называли этого мастера «верховным жрецом хореографического искусства», «гениальным», «одним из первых и отличнейших балетмейстеров в Европе»; скупая на похвалы «Северная пчела» окрестила его «великим артистом». Это был одновременно драматург, композитор, режиссер и художник. Из собственной безбрежной эрудиции им извлекались чудеса неистощимой изобретательности и смелых нововведений. Главным достоинством танца Дидло считал не прыжки, а грациозное положение корпуса и выражение лица – передающее все оттенки страсти оно заменяет слова актера.
Но этот «Байрон балета» в жизни представлял довольно комическую фигуру. Среднего роста, рябой, с небольшой лысиной, он отличался необыкновенной худобой и феноменальной подвижностью. Высокие, туго накрахмаленные воротнички рубашки закрывали вполовину его костлявые щеки. По воспоминаниям Авдотьи Головачевой-Панаевой, «у него были светлые, но сердитые глаза, он постоянно кусал свои тонкие губы, и его всегда нервно передергивало».
А вот как описывает «оригинальную личность» Дидло его ученик П. Каратыгин: «Он постоянно был в каком-то неестественном движении, точно в его жилах была ртуть вместо крови. Голова его беспрестанно была занята сочинением какого-нибудь па или сюжетом нового балета, и потому подвижное его лицо ежеминутно изменялось. Ноги держал он выворотно и имел забавную привычку одну из них каждую минуту то поднимать, то отбрасывать в сторону, точно страдал пляскою св. Витта». Это был поистине фанатик своего дела.
Как-то на репетиции балета «Амур и Психея» одной из танцовщиц кордебалета недостало лиры или вазы. «Дидло в бешенстве бросился бежать по Невскому, имея на одной ноге красный сапог, на другой черный, без шапки, обмотав голову каким-то газовым покрывалом. В этом виде он прибежал в Малый театр, взял что было нужно и тем же трактом отправился назад. Народ, естественно, счел его сумасшедшим и валил за ним толпою…».
ГЕНИАЛЬНЫЙ ДЕСПОТ
Он был легок на ногу, но тяжел на руку и с учениц требовал полной отдачи танцевальному искусству. Во время уроков он был совершенно беспощаден. Трость его действовала вовсю. В ком больше находил он способностей, за тем пристальнее следил и щедрее наделял колотушками. Синяки часто служили знаками отличия будущих танцоров.
От пылкого нрава грозного балетмейстера страдали не только ученицы. Строгим он был и с законченными артистами, пользующимися невероятным успехом у зрителей. Это прославленные Анастасия Лихутина, Мария Данилова, воспетая Грибоедовым в стихах Екатерина Телешова, пушкинская любимица Авдотья Истомина. За всеми деталями исполнения этот «диктатор» зорко следил из-за кулис, на каждого провинившегося набрасывался как коршун: «При шуме рукоплесканий счастливая танцовщица убегала за кулисы, а тут Дидло хватал ее за плечи, тряс изо всей силы, осыпал бранью и, давая ей тумака в спину, выталкивал опять на авансцену, если ее вызывали». Часто танцовщица, спасаясь от гнева учителя, из предосторожности убегала со сцены в противоположную сторону и пряталась от него. Случалось, от такой дерзости взбешенного Дидло приходилось отливать водой.
Так преподавал, режиссировал и руководил русским балетом неистовый «пиит танца». Имя его гремело и неизменно вызывало восторги публики. В 1836 году с целью поправить расстроенное здоровье Шарль Луи Дидло отправился в южные губернии, где скончался после шестидневной болезни. Так в 70-летнем возрасте, в один год со своим поклонником, поэтом Пушкиным, ушел в мир иной выдающийся реформатор европейского балета. По свидетельству близких, он до последней минуты сочинял разные сценические программы, одна другой лучше, интереснее и блистательнее. Да и того, что сделал этот мастер танца, уже достаточно, чтобы называть его имя с почтением и благодарностью. Созданные в России 59 балетов остались в наследство потомкам.
В тихой николаевской провинции среди белых домиков и обнаженных тополей в последний раз заплелись и развернулись его увлекательные феерии, которым уже не суждено было осуществиться в свете театральных огней.
Таков был эпилог великого хореографа, который прошел каким-то призрачным персонажем гофмановской сказки, щедро роняя на пути свои неистощимые легенды, фантазии и видения.
И, может быть, в атмосфере театра вы ощутите связь времен и традиций – ведь в рисунках танцев, исполненных необыкновенной прелести, продолжает жить поэтическая душа великого творца.
Ольга Курганская
Выбор редакции
Новости партнеров
