-10 °С
Облачно
Все новости
ПОЭЗИЯ
17 Мая 2020, 14:08
Жар мой яростный не женский
О поэзии Татьяны Павловой-Яснецкой Иногда думаю: какое счастье, что есть такой сайт, как Стихи.ру! Ведь иначе мне никогда не пришлось бы узнать такого современного автора, как Татьяна Павлова-Яснецкая, стихов которой нет ни в одном официальном издании. Видимо, такова реальность нового времени: большая, настоящая поэзия ушла в подполье, и на поверхности кипит, кишит, возникая и лопаясь, переливаясь всеми цветами радуги, пена, красочная, бойкая, однако удел её один – постепенно кануть в Лету, уйти мутным потоком в небытие. А то, что создаётся сегодня зачастую на обочине современного искусства и литературы, выживет, выстоит в своей бесправной правоте и останется долгим звучанием на многие годы после нас.
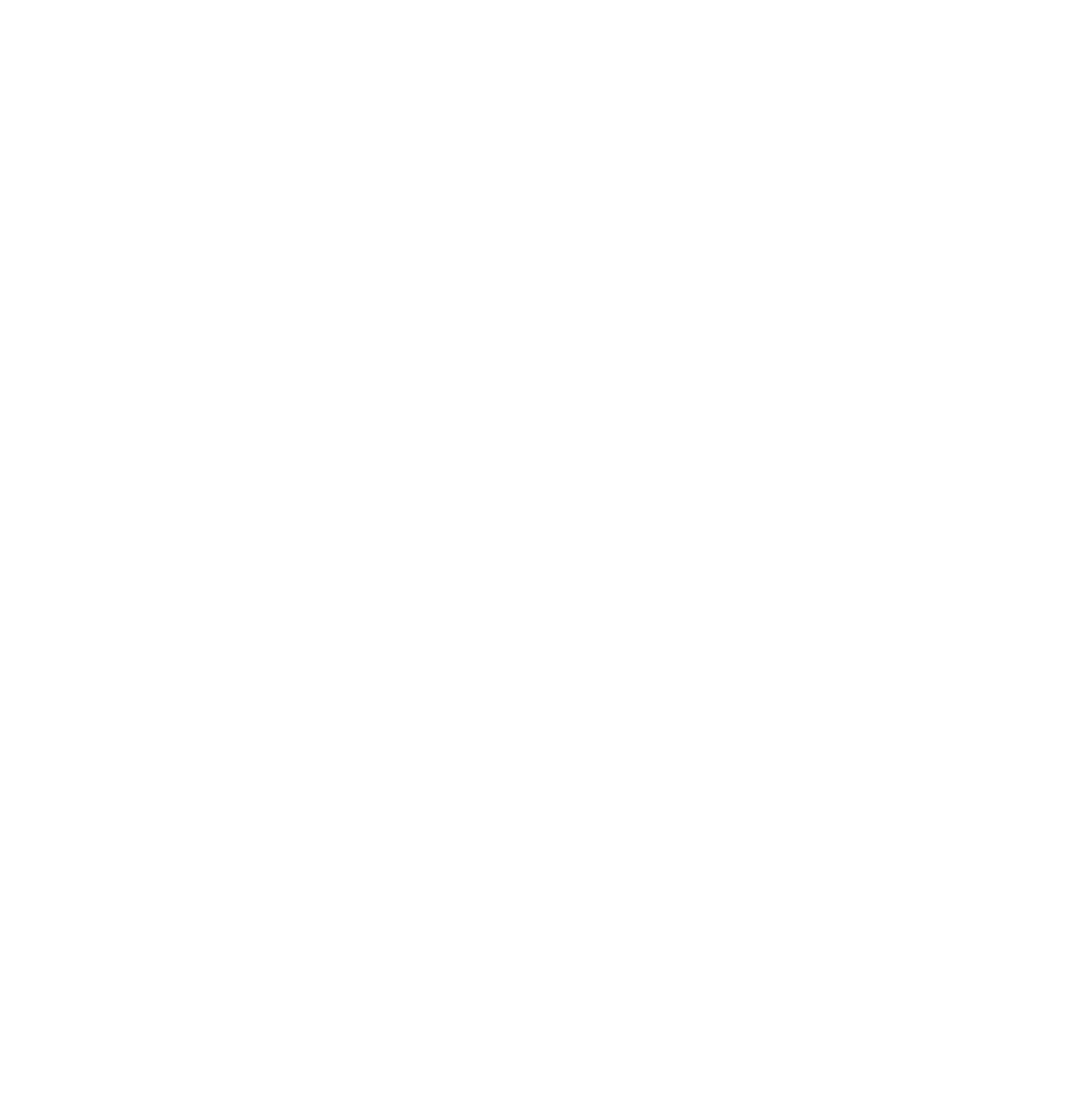
Татьяна Васильевна – коренная ленинградка, родилась в семье Василия Яковлевича и Галины Александровны Борисенко, прошедших от начала до конца всю Великую Отечественную войну. Отец был военным, полковником, кандидатом экономических наук, преподавателем, мать – учитель математики в школе. Нет никаких сомнений, какие глубокие нравственные основы были заложены в будущего поэта с самого детства.
Татьяна, ранимая, пылкая, внутренне свободная и тонкой душевной организации девушка, сгоряча забрала документы из Ленинградского института культуры (в те годы он был Библиотечным институтом) из-за конфликта с ректором, позволившим себе накричать на студентку. Не растерявшись, она окончила курсы машинописи и устроилась на работу. До этого времени с самого детства она писала стихи, но не очень удачное замужество и рождение дочери положило конец всем творческим порывам и надеждам: быт, бесконечная ответственность за семью, тяжёлые подработки и усталость не позволяли заниматься литературой, и о поэзии пришлось забыть на долгие годы. И только когда дочь выросла, в конце 80-х, как говорит сама Татьяна Васильевна, желание писать стихи нахлынуло на неё лавиной и уже больше не отпускало никогда.
Жизнь сложилась таким образом, что талантливой девушке не на кого было опереться в своих творческих поисках, и в молодости она не попала ни в литературную студию, ни в литобъединение, ни ещё куда-то, где могла бы встретить единомышленников, сумела бы ощутить поддержку литературной среды. А в зрелые годы ей, человеку крайне скромному и неназойливому, уже и неловко было предлагать свои стихи куда-то, да и не знала она, как это делается. Единственная её публикация состоялась в 93-м году в «Литературной России», куда её знакомый журналист отнёс несколько стихотворений поэта. Таким образом одно стихотворение Татьяны Яснецкой всё-таки увидело свет.
Так вот и получилось, что как поэт Павлова-Яснецкая находилась практически в собственном коконе до тех самых пор, пока три года тому назад не попала на поэтический сайт, где постепенно обросла «группой поддержки», нашла собеседников, ощутила родство близких по духу людей и обрела благодарных читателей.
Но этого, конечно, мало, ничтожно мало для того, чей голос должен быть ощутимо и внятно слышен в сонме других, кто остро чувствует кровную связь со своей землёй и народом, чьё слово способно вызывать боль и ярость, наделять силой и вселять надежду.
Расширение читательской аудитории жизненно необходимо любому поэту. Не славы ради, нет. Не для того, чтобы похвастать очередной медалькой или восторженной «рецкой». Стихи – настоящие, серьёзные, глубокие – должны проходить обкатку, должны взаимодействовать с другими, должны участвовать в современном литературном процессе, должны становиться узнаваемыми, чтобы воздействовать на человеческое сознание, возвышать сердца, звать свою эпоху вперёд. И молчание, а вернее, забвение – это самое страшное, на что обрекают литчиновники сегодня (да и всегда!) Поэтов с большой буквы. Потому что те – либо неугодны, либо опасны, либо малоимущи, либо недостаточно ангажированы, либо всё вместе одновременно ввиду врождённой негибкости позвоночника и безграничного, раздражающего свободолюбия. А большие поэты зачастую именно такими и бывают – малоимущими, без «волосатой руки» и, главное, совершенно лишёнными способности к самопиару и самораскрутке. Потому что когда в одном месте прибывает – в другом непременно начинается отлив. И чаще всего талантливые люди не дельцы по складу своей психики, по щепетильной сущности своей натуры. Редко из какого таланта получается успешный продюсер. Как говорится, это две большие разницы, два совершенно различных предназначения на Земле, две противоположные миссии, если хотите.
В стихах Татьяны Павловой-Яснецкой преломляется всё наше противоречивое, зачастую лживое и недоброе время. Их основной нерв – гражданская лирика – звучит у поэта особенно сильно – то горькими низами, то призывным набатом, то возвышенными верхами, то почти срываясь на крик. По блестящему определению самой Татьяны, наше «барыжное время» мало даёт нам шансов остаться людьми с их человечностью и состраданием, любовью к ближнему. И всё-таки без этого невозможно жить, любить, надеяться. Невозможно сохранить в себе живую душу, бессмертную и милосердную.
Впрочем, диапазон поэзии Яснецкой не ограничивается патриотической направленностью. Перу поэта подвластны и поэтические переводы – она серьёзно увлекается поэзией Шекспира, перевела практически все его сонеты, а также с интересом переводит с иврита по подстрочникам. В переводах пытается достигать точности оригинала, даже иногда в ущерб красоте и плавности звучания, добивается пронзительного сходства с подлинником, ищет новые и новые краски для передачи предельно верных оттенков авторской интонации. Невероятно сочна и любовная лирика Татьяны Павловой-Яснецкой: местами неожиданная, ни на кого не похожая, порой угловатая, а порой – совершенно беззащитная, её лирическая героиня предстаёт перед читателем во всей своей яркой и глубокой индивидуальности. Прекрасны и пейзажные зарисовки, которые, словно живые картины, философски окрашенные, встают перед внутренним взором читателя. Богатство красок и глубина авторского внутреннего мира проявляются и здесь во всей своей естественной и щедрой красоте.
Но поистине недосягаемых высот поэт достигает именно в философских стихах. Здесь её талант проявляется наиболее полно, во всех своих преобразованиях, всеми гранями своими преломляя действительность, порою беспощадно препарируя и обличая её, но тем не менее всякий раз давая ей новую жизнь. Любая мелочь – будь то дворовый пёс или репей на задворках – способны стать героями её стихов, вызвать к жизни поэтические образы, подталкивает поэта начать непростой и неспешный разговор с собой и миром. Воистину – «когда б вы знали, из какого сора!..»
Классически выстроенные, нервные, глубокие, вольнодумные, по-хорошему неровные и свободные, строки этого поэта завораживают своей правотой, подкупают искренней страстностью и вдумчивой безграничной мудростью, заставляют сопереживать и меняться к лучшему. Вера и неверие, смысл жизни, связь времён, нерасторжимое единение со своими корнями, ответственность перед потомками, исторические сломы, добро и зло, война и мир, будущее народа, нравственность и состояние нашей культуры – всё становится для поэта темой для раздумий.
Об этом – и ещё о многом другом – стихи поэта Татьяны Павловой-Яснецкой.
Валерия САЛТАНОВА,
член Союз писателей России
Ростов-на-Дону
________________________________________________________
За последний лист…
За последний лист в тетради
не заглянешь – не помрёшь.
В Петербурге, Христа ради,
на стихи не проживёшь.
Жар мой яростный не женский,
чувств и мыслей нервный тик,
помнит храм Преображенский,
знает Невский материк.
В лунных бликах – крыши, трубы,
рядом с ними – тень моя,
и всё шепчут, шепчут губы
то, о чём забыла я.
Чья меня гнобила сила,
сны и помыслы круша,
и кого не отмолила
перемётная душа?
Надо мной пустые звоны
всех, рождённых мною строк...
Громко каркают вороны,
вперясь в розовый восток.
В краю осин
В краю осин и сказочных трясин,
забытых деревень под низким небом,
где запасают соль и керосин
и заняты одним насущным хлебом,
вдруг наступает тишь и благодать
в природе, обездоленной нуждою,
и сердце начинает понимать,
что жизнь – дорога к вечному покою.
Глядишь, глядишь на тучи, облака,
плывущие, как лодки в океане...
И грусть твоя так чудно высока,
что смысла нет ни в правде, ни в обмане.
Не спи, душа!
Не спи, душа! Осталось так немного
ночей и дней, удач и неудач.
Судьба от первой цифры до итога –
в решенье нерешаемых задач.
Шипенье вьюг, рычанье диких селей,
ветров метанье, хлюпанье дождей,
молчанье звёзд, журчание капелей –
что на земле трагичней и важней?
Великая бессонная дорога
даёт нам шанс прощенье заслужить;
не спи, душа – осталось так немного
ночей и дней друг другом дорожить.
Там
Там великий погост
и приют всех ветров.
Там поёт Алконост
на границе миров.
Там глубок небосвод
и река глубока,
смотрят только вперёд
дни, года и века.
Оглянуться назад –
на потерянный мир
принуждает там взгляд
козлоногий Сатир.
Знаком горькой судьбы
в человеческий рост
соляные столбы
там встают средь берёз.
Души, тело круша,
в птичий строятся клин,
вслед им плачет душа
всех земных окарин.
Всё зовёт и зовёт
на побывку домой
превратившийся в лёд
жар свирели земной.
Хочешь верь иль не верь,
но у адского дна
можно Сирина трель
услыхать иногда.
Среди яблонь и груш
он в раю без тенёт
для измученных душ
песнь надежды поёт.
Грифелёк
Ветер раму рвёт с петель,
осень листьями трусит,
забулдыжная артель
где-то пьяно голосит.
На заката киноварь
старый пёс рычит с цепи.
Тусклый уличный фонарь,
светом сумрак окропи!
Станет прошлое видней,
легче станет на душе.
Вспомню порт семи морей,
грифелёк в карандаше
под названьем «Кохинор»,
тонкий, словно волосок,
лёгкий, тихий разговор,
как струящийся песок.
Вспомню запах прошлых лет,
запах сплетен и молвы,
чёрно-белый силуэт
перестроечной Москвы.
Всем обетам вопреки,
как хотелось и моглось,
с дорогой пила руки,
как и юной не пилось.
Где искать мне вас теперь,
дни любви и дни потерь?
Ветер раму рвёт и рвёт,
дождь осенний льёт и льёт...
О моя ночная блажь!
Где ты, старый карандаш,
твёрдый, тонкий «Кохинор»,
что храню с тех давних пор?
* * *
Кипели страсти.
Пар горячий
со свистом «крышу» мне срывал
под ледяных, глубинных плачей
непрекращающийся шквал.
Летели лунные недели,
года со стужей и жарой,
под ними волосы седели
с неимоверной быстротой.
И утихали, утихали
слепые страсти, как ветра,
живыми становясь стихами,
слетали с кончика пера.
Они во мне, как в небе птицы,
витают ночи напролёт,
устав, садятся на страницы
и вновь уходят в свой полёт.
О чём-то памятном курлычут
и, сны любовью напоя,
несут их в клювах, как добычу
всем тем, кого любила я.
Мои любимые – спасибо
за свет изменчивый и тьму,
за непреклонность: либо-либо –
за воздух воли и тюрьму!
Ещё за то, что дух свободен
и не походит на брюзгу,
что к лицемерью непригоден,
за то, что плакать я могу.
* * *
Сфер небесных божественный житель,
обитатель таинственных ниш,
ангел радостный, ангел-хранитель,
голос мой недостойный услышь.
Подари мне звезду без названья –
я придумаю имя сама,
чтоб звучало оно, как признанье,
и ночами сводило с ума.
За печаль, что мытарит с лихвою,
подари соловьиную трель,
шорох ветра под ветхой стрехою,
в полночь настежь открытую дверь.
Подари позабытую негу
с горьким привкусом для приверед,
с неизменным стремленьем к побегу
на свободу из жёстких тене́т.
Сшей суровыми нитками душу,
что кровит, расползаясь по шву,
и я клятвы своей не нарушу –
быть живою, покуда живу.
* * *
У окраин дальних ноября
холода́ бросают якоря.
А пока – промозгло, ветер зол,
всюду увяданье и разор.
Сжав листок кленовый в кулаке,
осень мёрзнет в старческом платке.
Греться не пускают задарма
оборванку в тёплые дома.
Но спешит с известием гонец –
белоснежный строится дворец
в чистом поле матушкой-зимой,
с крышею прозрачной ледяной.
Будет там уютно и тепло,
сколько бы пургой ни намело
снега ослепительных пудов
возле деревень и городов.
Отдохнёт природа от потерь,
ничего, что грустно ей теперь.
Друг без друга, как ни приучай,
не живут веселье и печаль.
Сорванная струна
Ночь насытилась голодная…
Из обглоданной меня
выползает подколодная
едкой горечи змея.
И лежу я распростёртая
на измятой простыне
не живая и не мёртвая –
звук в оборванной струне.
А душа, как пчёлка малая,
надо мной гудит, гудит…
Солнце круглое и алое
в окна радостно глядит.
Кто поверит, что реальная
от души на шторе тень?
Скажут – дура ненормальная
с головою набекрень.
Ах, какое быстротечное
тонет в волнах тишины,
звукам мира поперечное,
эхо сорванной струны!
* * *
Серой ниткою дороги
лес насквозь прошит и луг.
Сны не могут быть убоги –
даже если из дерюг.
Милый, милый!
Жизнь-кокетка
завлекает, правя бал,
а в конце стреляет метко,
убивает наповал.
Птичка гибнет на морозе,
но не ропщет, чуть дыша,
что вот-вот почиет в бозе
певчая её душа.
Что же мне – то света мало,
то надежды, то любви?
Сотни слов набормотала –
все валяются в пыли.
Милый, милый!
Вянет сердце,
в дней уткнувшись бахрому,
под подошвой жёсткой берца,
что шагает по нему.
Месяц выплывет из рая
в мировые солонцы,
грёзой призрачной сшивая
жизней рваные концы.
Милый, милый!
Бестелесен
нынче ты, уйдя в отрыв.
Стал ли дух твой мрачный весел,
всё земное позабыв?
Выбор редакции
Новости партнеров
