-2 °С
Снег
Все новости
ХРОНОМЕТР
25 Января 2021, 20:13
Утраченные надежды. Часть двенадцатая
(Хроники предпринимателя) 1992 Развиваемся: год выдался крайне сложным. Первое – поменялась вся налоговая система, пришлось покупать первые компьютеры для бухгалтерии, «вручную» весь объем информации стал непосилен. А главное, пришлось перестраивать всю работу по экономике. Учились на ходу – посылал на курсы, закупали новые программы и учебники. Прибыль и «свободные» деньги становились главными элементами экономической политики фирмы – иначе не выживешь.
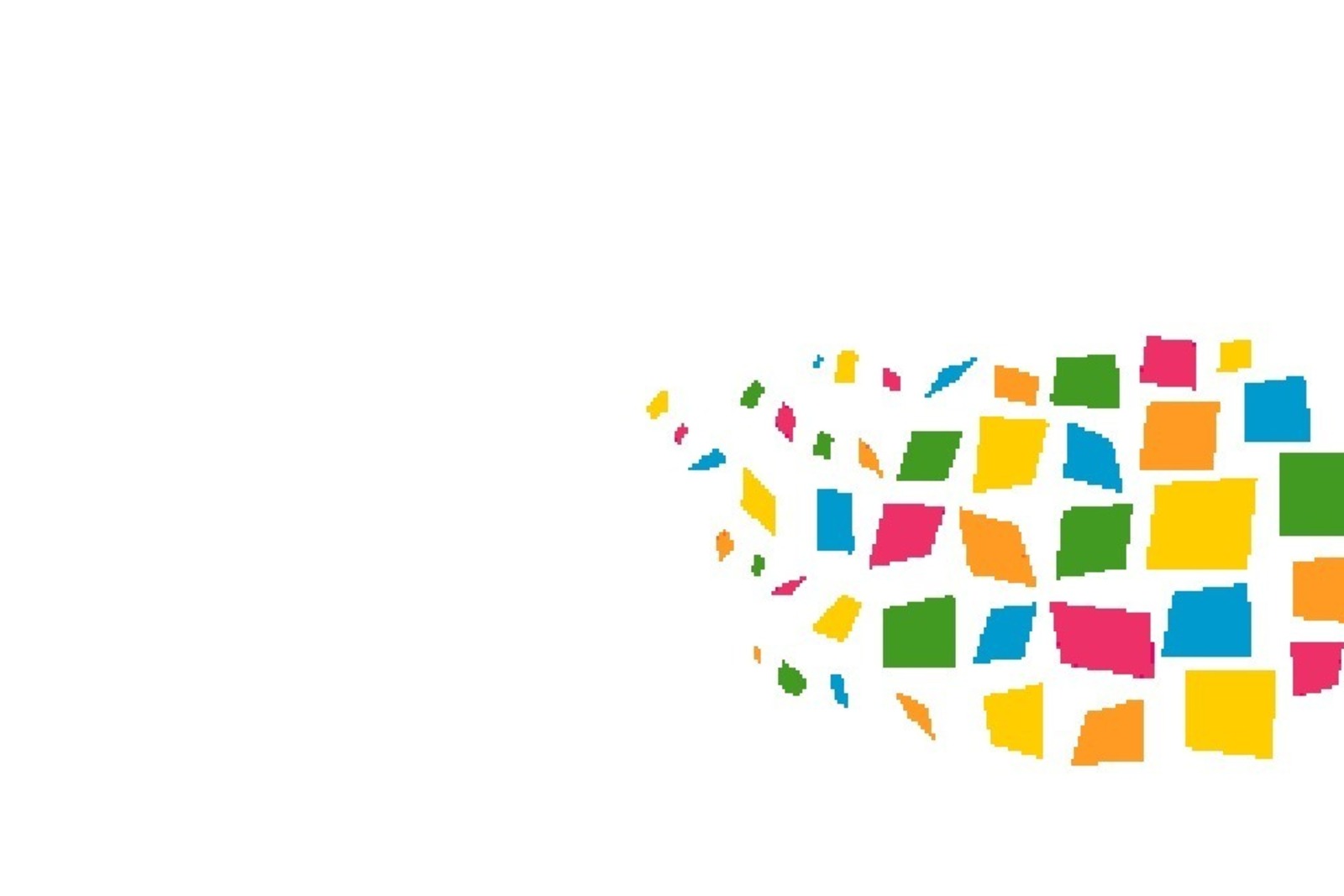
В общем, этот год был переоценкой всей моей предпринимательской идеологии. Стало абсолютно понятно, что пусть и «кривой», но пришел рынок, как себя на нем выстроишь, так и жить будешь. А услуги надо просто уметь продавать. Знаний, конечно, не хватало. Больше на интуиции – пошел на горизонтальное управление фирмой. Ввел должности замов, начальников отделов и передал им функции управления, а главное возможности, деньги и ответственность. Трудное это дело оказалось: привыкли в совке, что все на директоре замыкается, только лет через пять все окончательно отладилось. Себе оставил – заказы, перспективы и общее руководство. Потом не раз эта схема управления нас выручала. И главное – поставил «сверхзадачу»: мы должны быть первыми и лучшими. Не для красоты, для сугубой прозы жизни – большей прибыли, и большего нашего заработка. Вот эта задача в дальнейшем самой тяжелой оказалась, – держать марку – но и самой выгодной.
Второе – резко «провалилась» вся строительная отрасль. Вплоть до того, что перестали выходить и обновляться нормативные документы. Жилье «для народа», школы, детские садики, дворцы культуры ушли в прошлое, а спрос на новые объекты еще не сформировался. Главное – не было ни у кого свободных денег на строительство, заказы были редкими и единичными. Пришлось заниматься тем, что сейчас называют «маркетингом» – делать опережающие проекты, разворачивать рекламную компанию, «стучаться» во все инстанции. Хорошо, что начал это делать еще в 80-х – сейчас срабатывало.
Третье – гиперинфляция. Цены на все материалы, услуги, коммуналку и пр. взлетели до небес (по моим записям, затраты увеличились на 425%), а цены на проекты мы смогли поднять только в 2–3 раза, и то – только по новым заказам. Старые заказы стали просто нерентабельны. Пришлось применить «маленькую» хитрость – поэтапное проектирование, и договора стали заключать в основном не на весь проект, а на его части, это позволяло каждый раз немного поднимать цену. И еще, добились сообща со строителями, индексации цен с учетом инфляции министерством.
Четвертое – появилась острая необходимость в деньгах на развитие. Мы получили в этом году в собственность новые помещения, их надо было выкупать и приводить в порядок: Особняк Тушнова, полученный нами в прошлом году, требовал реконструкции – там только стены остались от «подготовки к сносу». И, совершенно неожиданно для меня, нам передали в собственность целый институт. Институт (бывший «Башбытпром») окончательно «сдох», денег на зарплату и обслуживание у него не осталось – одни долги. Честно скажу – никаких усилий по его «захвату» не предпринимал, не до этого было. Просто его директор, прекрасный, кстати, специалист и человек – Юрий Алексеевич Стрельцов решил, что пора сдаваться более успешным конкурентам. Вокруг него много всяких желающих бродило, но выбрал он нас и оформил в Госстрое все бумаги по приватизации в нашу пользу. Когда мне позвонили из Госстроя, я сначала думал, что это первоапрельская шутка, но, уяснив, что все серьезно, быстро все бумаги подписал и провел, как положено, решением правительства. Для нас это был прорыв на новый уровень развития – помещения, готовые отделы, высококлассные специалисты, архив и прочие дела, вплоть до моего личного кабинета... Правда, достался нам этот «прорыв» в весьма плачевном состоянии – у меня в «кабинете» находился склад из колен-валов и прочей техники. И долги институтские достались, правда, не очень большие, слава Богу. И людям надо было зарплату платить, мне ведь передали институт с условием, что никто не будет уволен. И ремонт элементарный надо было делать.
Тут – крутись не крутись, а свободные средства нужны. Решил это дело несколькими путями: прежде всего – провел через «Совет» снижение фонда оплаты труда до 45 копеек с рубля (потом до 40), убедил ребят просто – или мы развиваемся и живем дальше, или «проедаем» будущее и расходимся. Еще – успешно сработала схема «опережающего проектирования», продали готовый проект жилого комплекса аж за семь миллионов. Это был царский «подарок», мы сразу смогли закупить первую партию компьютеров и пустить деньги в ремонты, материалы, погашение долгов и на выкупы и оборудование помещений. Еще – сильно выручала «своеобразная» система оплаты исполнителям, при которой окончательный расчет делался после поступления денег от заказчика, а ежемесячные начисления на зарплату были минимальные. Почему это было возможно? Да очень просто – не было у нас уравниловки «каждому по 120», как в обычных институтах, человек получал свое, заработанное, полностью и честно. Получалось при окончательном расчете прилично, поэтому в промежутках могли и потерпеть – знали, что свое всегда получат полностью, и налоговая система тогда позволяла так работать. Это потом, в середине 90-х, стали соцстрах отбирать и за начислениями следить. Главное, и чем горжусь до сих пор – ни разу, ни под каким видом зарплату не задержал за все 20 лет своего директорства, всегда вовремя и полностью. Это ведь основное в бизнесе – как люди себя чувствуют, если есть вера в дело, то горы свернут. Кстати, никаких «черных», «серых» и прочих зарплат у нас не было. Ерунда это – что налогами нас тогда давили, у меня в балансах за этот год и структуры налогов не показана, только на следующий год появились записи о 29% от прибыли. От неумной жадности и отсутствия перспективы все эти «серые» схемы, и больше от самого предпринимателя зависит. Выбрал «нормальное» поведение, пусть и в плохих условиях – выживешь, выбрал «химию», рано или поздно накроешься медным тазом. Рынок дело суровое. А, среднемесячная зарплата вполне нормальная для того времени у нас была – 4,5 тысячи на человека.
В общем, так – обучаясь на ходу и «изыскивая возможности», мы довольно успешно этот сложный год и закончили. Работали в объединении уже 129 постоянных сотрудника, 25 архитекторов, объем работ выдали в 21, 3 миллиона рублей, и даже (по «Архпроекту») 6,0 миллионов прибыли получили. Помещениями обзавелись – 511 квадратов в собственности, 784 в аренде. Выходили на уровень ведущих проектных организаций в России (5 место в рейтинге среди десятка самых крупных).
Жизнь предпринимательская вокруг нас тоже не стояла на месте.
Наступила эпоха приватизации. Передачи заводов и фабрик в руки «трудовых коллективов», как это называлось. Идея самая идиотская, потому что трудовые коллективы первым делом все растаскивали и разворовывали. И Чубайс, что интересно, там рядом не стоял. Идея эта еще при совке была принята «народными» депутатами – не верите, посмотрите даты на законах. Не было нормативной основы для приватизации, кроме законов, принятых еще в прошлую «эпоху перестройки», она только в этом году вдогон нарабатывалась. Ладно, пока от оценок воздержусь.
Большинство предприятий перестали уже что-то выпускать, тупо сдавали в аренду под торговлю свои площади, и делили акции, в пользу «руководства», естественно.
Среди наших конкурентов – проектных организаций – мало было движения к рынку, они все еще жили «старыми запасами», наработанными связями и заказчиками. Единственный, кто пошел на приватизацию – был «Гражданпроект».
Разом, стихийно появилось множество ТОО, АО и прочих аббревиатур и наименований магазинов, парикмахерских, салонов, где по-прежнему хамили потребителю, но гордо именовали себя «частными».
Но уже пробивались первые ростки нового – коммерческие магазины, где дорого, но были продукты и вещи, и где с тобой обращались, как с желанным покупателем. Первый такой «комок», как их тогда называли, мы, кстати, и спроектировали. А человек, стоявший у его истоков, до сих пор успешно работает.
Целое сомнище всевозможных фондов и аукционов возник на ваучерах: НИПЕК, "Альфа-Капитал", "Гермес и Ко", "МММ-инвест", они активно и с размахом аккумулировали деньги населения и приватизационные чеки. Открылась знаменитая ММВБ (валютная биржа), акционерами которой стали все ведущие коммерческие банки.
Основные «приметы года»: магазины и палатки на всех углах. "Ларечный бизнес" подвергается нападениям и поджогам. Рекордный год по угону автомобилей, появляются гаражи-"ракушки". Реклама памперсов и подгузников на ТВ, многочисленные валютные «обменники», курс доллара достиг 400–500 рублей.
Жизнь повседневная:
главное, что вошло в нашу жизнь – это непривычное пока слово «инфляция». Цены освободили, и они неуклонно поползли вверх (по сегодняшним подсчетам, к концу года увеличились аж на 2520%). Бензин – с 6,5 до 23, хлеб – с 4 до 25, водка – с 40 до 320 рублей.
«Вот и отпущены цены. Хотя мы к этому и готовились, реальность превзошла все ожидания. Хлебный батон, который летом стоил восемнадцать копеек, сегодня 2 рубля 10 копеек» (Правда», № 2, 3 января 1992 г.).
«Разоряются в равной мере колхозы и СП, фермеры и госпредприятия, кооперативные кафе и творческие союзы. Потому что теперь, чтобы купить яблоко, я должен сделать десять авторучек, но и садовод, чтобы купить авторучку, должен вырастить десять яблок… И реформа только в том, что отбирают у нас теперь не десятину, а девять десятых» (Независимая газета, № 64, 2 апреля 1992 г.).
В обращении поступили купюры в 10 000 рублей.
Полки магазинов потихоньку стали заполняться продуктами и шмотками, не всем, правда, доступными. Народ кинулся торговать кто чем может, улицы превратились в мини-рынки, на каждом углу возникли «коммерческие» палатки с мощными решетками на окнах, где уже можно было купить многое. Трудно стало с сигаретами, помню, доставал их с трудом. Но, в целом, если работаешь, то жить становилось проще – не надо было уже ничего доставать и просить «по блату», плати деньги – забирай товар.
В одночасье, с объявлением приватизации жилья, мы все (имеющие квартиры) стали владельцами частной собственности. Мало кто это осознал тогда. Но многие уже втягивались в покупку – продажу жилья, многие его просто пропивали. Возник целый «черный» рынок обманных услуг и страшных на людском горе «бизнесов».
Нам всем выдали бесплатно ваучеры. Где и как – уже и не вспомнишь. Семейные ваучеры пока отложил до лучших времен, не до этого было. А народ кинулся их активно продавать и «вкладывать», много тогда появилось «специалистов» по их отъему вполне «законными» способами. Чубайс опрометчиво сказал о «двух Волгах», народ «Волг» ждать не стал, но зуб на Чубайса вырастил. «В переходе на Пушкинской площади не пожелавший назвать себя человек пояснил, что продает свой ваучер всего за 20 тысяч рублей, и это очень дешево: на Курском вокзале они идут по 150 тысяч… На Курском вокзале и правда продавался ваучер – но за пятьсот рублей. Корреспонденты «МН» живо сбили цену до двух бутылок водки, которые в ту ночь шли по 220 рублей за штуку» (Московские новости, № 43, 25 октября 1992 г.). У нас на центральном рынке ходили целые толпы с табличками на груди – «Продаю – покупаю ваучеры». Шуму потом много было – «обманули нас бедных». А кто заставлял их за бутылку отдавать – одному Богу известно.
Самое плохое, что в этом году случилось – это то, что все сбережения, какие у людей были в сберкассах, накрылись медным тазом. В нашей семье и у большинства сотрудников нашей фирмы больших сбережений не было, поэтому механизм отъема я смутно себе представляю, но людей, потерявших все деньги, конечно, знал и видел. Жалко их было, искренне. Пожалуй – это самая большая ошибка Гайдара была.
Нам, безусловно, «повезло» – мы вошли в рынок с отлаженной системой и неплохой работой, мне трудно судить за всех. Но, в общем, в народе сильного озлобления не помню – митинги и демонстрации перестали быть интересными, надо было работать и зарабатывать на жизнь, чем большинство и занялось…
Александр КЛЕМЕНТ
Продолжение следует…
Выбор редакции
Новости партнеров
